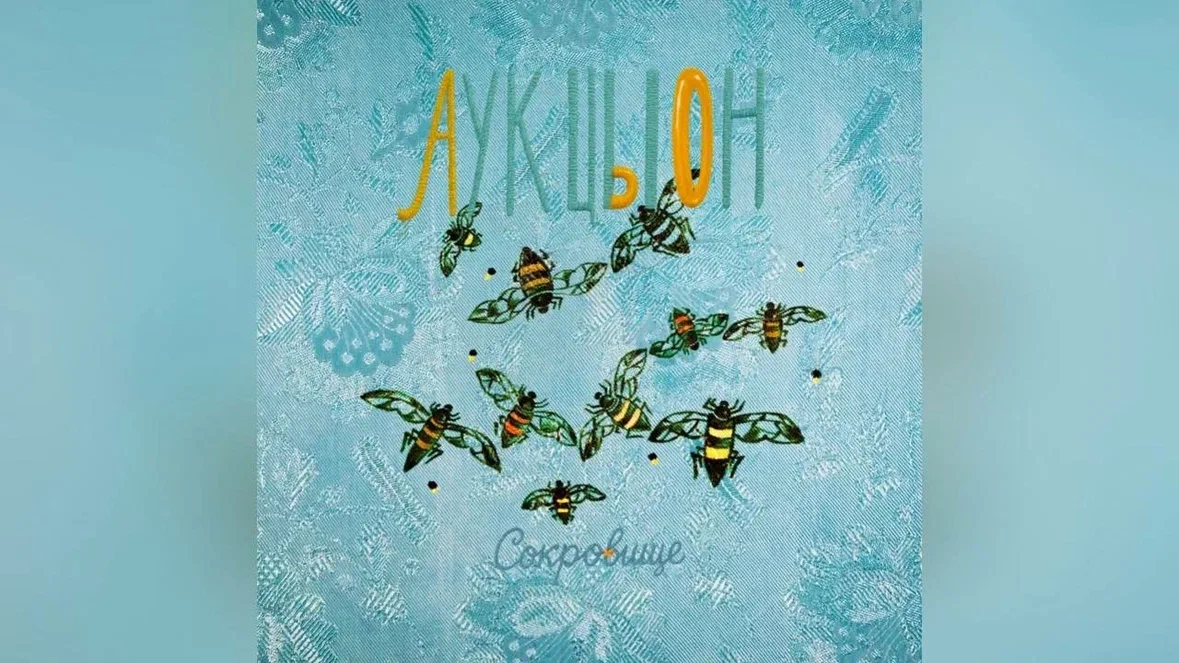7 декабря 2025
Преданность делу
К 80-летию поэта Сергея Чухина
Чу́хин – фамилия профессиональная. Чу́хи – это, как толкует словарь, древнерусское название для тёсля, то есть резчика по дереву. В древности тёсля имел большое значение, его работы украшали храмы, дворцы, жилища. Чухины прославились мастерскими навыками и преданностью делу, подвизаясь в различных областях: от ремёсел до науки и искусства.
Один из них, Сергей Валентинович, родился 12 октября 1945 года в деревне Бабцино Вологодского района в семье сельских учителей. После школы успел потрудиться киномехаником, корреспондентом областного радио. Потом были институты: в 1963-м поступил на филфак Вологодского педагогического, два года спустя перешёл в Литературный имени Горького (окончил в 1970-м). С 1973 года жил в Вологде, работал журналистом, исколесил Вологодчину, живописуя впечатления в заметках и стихах. Автор шести поэтических книжек: «Горница» (1968), «Дни покоя» (1973), «Дым разлуки» (1974), «Осенний перелёт» (1979), «Ноль часов» (1980) и «Стихотворения» (1982). Сборник «Придорожные камни» вышел посмертно: 16 октября 1985 года жизнь поэта, который едва отметил сорокалетие, нелепо прервалась: его сбил грузовик. Похоронен рядом с Николаем Рубцовым в центральной части 2-го квартала Пошехонского кладбища Вологды...
Последний факт по-своему знаменателен в поэтической судьбе Сергея Чухина.
На многих его стихах лежит даже не тень, не отблеск, но сургучовая печать добротного, я бы даже сказал – послушного ученичества. С одной стороны, можно понимать это как ту самую преданность делу, в чём зарекомендовали себя носители старинной русской фамилии. В то же время, ученичество – оно и есть ученичество, всегда ты в подмастерьях, даже когда ощущаешь в себе мастера. Затык, неволя, печальное стечение обстоятельств. А в случае с Сергеем Чухиным иного, наверное, и не следовало ожидать, учитывая время и адрес, вообще все те координаты, в которых поэт жил и творил. На что Лермонтов, талант редчайший и могучий, в веках и народах несравненный, но и он, всё в силу тех же причин, оказался под властью кумира и не скоро от его воздействия избавился.
Что и говорить, соседство в искусстве, а наипаче того ещё и в жизни, с великим современником – собратом по ремеслу – немалому числу творителей погубило будущность. Ну если не погубило, то затруднило изрядно, саму сущность человека подавляя тяжким камнем чужого преобладания, когда сам ты как будто есть и в то же время тебя нет – без увязки с именитой фамилией, что тотчас восходит над тобой, как солнце или туча, едва печатно или устно помянут имя твоё. И ладно, если соседство равнозначных величин. А что как один Толстой, а другой совсем не Достоевский? Тут и до трагедии рукой подать, а для поэта и вовсе недалече, коль скоро он сам себе трагедия.
Не зная, ощущал ли бремя ответственности Сергей Чухин. Но, думаю, оставаясь наедине с собой, нередко поводил плечом, дабы эти узы свалить, сбить цепи со своей Музы, кандалы вот эти, в которые он был заключён естественным порядком обстоятельств, которых нельзя было ни поменять, ни избежать.
Увы, не всегда удавалось.
Рубцовский знак, мета пускай некичливая, но отличительная, своеобычная при всей вдохновенной простоте и уже тем заманчивая, подкупающая, однажды приглянулась и навсегда сообщилась поэзии Сергея Чухина. В той или иной мере она сопровождала его до конца дней, а более того, неизменно следовала за ним в обзорах рецензентов, которые по первости ничего другого не могли сказать об ещё одном вологодском самородке, кроме как зачислить его по ведомству Николая Рубцова и на этом успокоиться. И чем бы, казалось, плохо? Тут и мастер хорош, и вообще не возбраняется наследовать достойным образцам. Да и не один Чухин выступал поборником русского классического письма, прозванного «тихой лирикой» и с именем Николая Рубцова в первую очередь отождествляемого. Но всё это, как мы понимаем, разумно до определённой степени. До тех пор, пока не мешает вырабатывать свой почерк и не слишком очевидно на этот почерк влияет, поэтому замечания и даже претензии советских критиков рождались не в пустом воображении.
Действительно, стихи Сергея Чухина не лишены, к сожалению, некоторой зависимости, собственный голос усмиряющей. Но дело не только и, может быть, не столько в Рубцове.
Иной раз покажется, что это отнюдь не крест для Чухина, но любезная взаимосвязь, которую поэт намеренно не прерывал и даже более того, столь же намеренно длил и длил в своём творчестве, всему наперекор, как бы решая для себя какую-то (на самом деле понятную) психологическую задачу. Довольно сказать, что в книжках Сергея Чухина преобладает, по сути, всё тот же нехитрый скарб, словно бы вытряхнутый из дорожного чемоданчика, с которым Николай Михайлович вошёл в историю русской поэзии. Я имею в виду и стиль, и темы, и способы рифмовки, и окольцовку стихов по замкнутому типу, и схожесть некоторых сюжетов, уже обслуженных Рубцовым, и клятвенные признания в верности селу и Родине, так искренно, так свежо прозвучавшие в устах Рубцова и посему в чужом исполнении, а точнее, в перепеве, вызывающие разве что досаду («Только сердце навеки пристыло // К той земле, что магниту сродни…»). Конечно, истины ради надо заметить, что и Рубцов, в свой черёд, не высидел в надсадном умствовании, но заимствовал весь этот поэтический арсенал из опыта предшественников, то есть сам, так сказать, выступил прилежным обучающимся, и в этом смысле они с Чухиным сошлись, как ученики одной школы, с равными правами и обязанностями...
И всё-таки это не совсем так.
«Он дым хватал от моего огня» – эти слова другого современного поэта с полным основанием можно отнести на счёт младшего товарища Николая Рубцова, нисколько не желая никого принизить, но опять-таки стараясь рассудить по закону. Потому что одно дело в технике, то бишь в самом ремесле и способах его, весьма разнообразных и не имеющих закреплённого авторства, так что возможно и совпасть, перекликнуться, невзначай срифмоваться, отнюдь об этом не помышляя и к этому не стремясь. И совсем другое дело, скажем так, в самом воздухе, а лучше – в дуновении его, вот в этом дыхании – невещественном признаке чьего-то иного, не совсем и твоего, присутствия, которое обнаруживается буквально во всём, в каждой строке, в то время как автора с его особинкой до поры до времени не разглядеть. Вот и открывая для себя Сергея Чухина, нельзя не остановиться в оторопи оттого, что на вас как будто повеяло со страниц «Звезды полей» и других незабвенных сборников из уже легендарного пятикнижия Рубцова:
По тихим тропам родины моей,
Где вызвездило чистые ромашки,
Пойду бродить в сатиновой рубашке
По тихим тропам родины моей.
Пока нигде не затопили печь,
Пока в заре созреет день погожий,
Поговорю с прохожим, как прохожий,
Пока нигде не затопили печь.
Приду домой, присяду у дверей,
Возьму перо и книжку записную...
Но только мама знает, что ищу я
На тихих тропах родины моей.
Подобных откровений, притом по-своему милых, услаждающих душу приятной знакомостью уже вчерашних впечатлений, достаточно у Сергея Чухина. И всё же в лучших своих стихах (не обязательно поздних, кстати) поэт сумел – нет, не преодолеть, но пересвистать на свой манер уже, казалось бы, обрыдшие мелодии и мотивы. Стихов таких не то чтобы кипа, на книжечку всего и наберётся. Но стихов сердечных, избранных, в полном смысле слова – своих. Они всё претерпели наравне с автором – и сомнения, и жгучую веру в себя, в свой талант, и затмение большой величиной, и сопутное ему бессилие, и тем по-своему окормились и окрепли, набрали живого, а не заёмного веса. И всё-таки написались, состоялись, вошли в золотой переплёт отечественной поэзии – пусть дюжиной какой-нибудь, но вошли! И это так много, если подумать да на миг представить, что там, в переплёте-то, и Пушкин, и Тютчев, и Блок, и Есенин, и Твардовский с Прасоловым да Решетовым, и несть числа именам, заветным для нас. И Сергей Чухин тут, отныне и навсегда, со своим негромким, но чистым голосом:
Ах, как ласточки реяли в выси!
Нежным сеном тянуло с полей.
И слетались вечерние мысли
На огонь сигаретки моей.
Шли подводы деревнею грузно,
За подводами шли мужики.
Нам для горести многое нужно,
А для счастья совсем пустяки:
Только б ласточек в выси
Да эту
Вечереющую благодать,
Да ещё докурить сигарету
И заснуть...
И проснуться опять.
«Поэты русской резервации» – двух Николаев, Рубцова и Тряпкина, повеличал Юрий Кузнецов, который был не то чтобы скуп на похвалу – он как будто и вовсе не знал добрых слов по отношению к коллегам. И тем дороже это его во многом неожиданное признание и чужого достоинства, и чужих заслуг перед поэзией и Россией.
Думаю, эту «резервацию» вполне уместно расширить, населив ещё не одним десятком других тоже действительно славных имён, которые не задержались в поле зрения Юрия Поликарповича.
Имя Сергея Чухина, на мой взгляд, должно быть в общем списке. Иначе он будет не то чтобы куцым – не столь безукоризненно полным, как надо бы, как требуется по справедливости.
«А нас и так осталось мало…» – понимая и свою причастность тоже к некой почти внутриродовой общности, представленной наиболее совестливыми и любящими свой народ и свою землю русскими поэтами, написал Чухин в одном из стихотворений. И на то, на причастность эту, имел обоснованное право, коль скоро перу его иной раз были подвластны, на мой взгляд, не только общие места и низины, но и вершины с их горней красотой и прозрениями, всегда отлившими подлинную поэзию от безуспешных посягательств на неё. И тут (увы, на закате уже) не было ученичества, затянувшегося на годы школярства. Но верность делу неизменно оставалась, присяга слову, единожды данная, неукоснительно соблюдалась. Да, верность делу и кровная соединённость с вечными охранителями его, в ряды которых встал теперь и сам Сергей Чухин – тихий вологодский лирик, на фоне Рубцова стеснительно притулившийся с краю, но по-своему единственный и прекрасный в своём дружеском присутствии. Словом, такой, кому и лиру, и Родину можно было завещать, пребывая в уверенности, что они в надёжных руках и не будет им посрамления.
Пускай со мной душа моя умрёт,
Пусть без неё наступит время года,
Пусть без неё воды круговорот
Продолжит неуёмная природа.
Пускай со мной душа моя умрёт,
В другое тело не перелетая,
Другой душе не принося забот,
Пускай со мной душа моя умрёт,
Невечная, спокойная, простая.
Не надо мне заоблачных высот,
Где пустота сознанье убивает.
Пускай со мной душа моя умрёт,
Но только раньше пусть не умирает.
Андрей Антипин
Сергей Чухин
1945-1985
«Не надо мне заоблачных высот…»
Стихи разных лет
* * *
Зима глубокая стояла.
Снега за окнами несло.
А печь гудела и стреляла,
И было тихо и тепло.
И только бой часов старинный
Кота дремотного будил,
И вечер зимний, вечер длинный
В ночь милую переходил.
И всё спешило жизнью тайной
Пожить, пока не рассвело,
И только ставен стук случайный
Откатывался за село...
* * *
И хотел бы в деревню родную,
Да пустили её на распыл.
И хотел бы запеть удалую,
Да старинный мотив позабыл.
Голо всё, словно после набега
Золотой зачумлённой орды.
Лишь былинка торчит из-под снега
Там, где прежде стояли сады.
Только ветер гуляет над полем,
Закатившийся в наши края.
Он, конечно, судьбою доволен,
Бездомовный, как, впрочем, и я.
Мне бы тоже за ветром умчаться,
Бросить эти края – и умчать!
Чем былинкой над снегом качаться,
Чем пеньком на дороге торчать.
Только сердце навеки пристыло
К той земле, что магниту сродни,
Где и летом нечасто гостило
Красно солнце в холодные дни,
Где теперь заметает дороги –
Скоро будет совсем не пройти! –
И откуда застывшие ноги
Всё не могут меня унести…
* * *
Нарву цветов у старой школы,
Проникнув тихо в палисад.
Хотя и так уж клумбы голы
Стараньем тутошних ребят.
За сотню метров огибая
Всё замечающих старух,
У дранью крытого сарая
Переведу спокойно дух.
Предвидя разные вопросы,
В уме ответы затвержу.
На дымные седые росы,
Поёживаясь, погляжу.
И вдруг припомню, как четыре,
А может, пять годов назад
Всё так же дергачи частили,
Как и теперь они частят.
И так же холодило дали,
И так же рядышком со мной
Цветы поникшие лежали,
Но сорванные для другой.
* * *
На таёжной станции цыгане
Закатились табором в вагон.
Сразу, как в вечернем ресторане,
Шум и гам пошёл со всех сторон.
Да, народец пёстрый, даже странный...
Непонятно, где зимует он?
Пролетело полдесятка станций —
Покидают табором вагон.
И опять палатки ставят в поле,
Где-нибудь повыше, над рекой...
Что у них за тяга к дикой воле?
Мы давно забыли о такой.
* * *
Далеко, за тёмными холмами,
Сердцем понимая доброту,
Медвежонка мужики поймали,
Круглого лесного сироту.
К молоку сначала приучили,
Прочно сколотили конуру,
А потом и вовсе приручили
И гулять пускали по двору.
Маленький, способный до науки,
Перед сельской бойкой детворой
Мишка вытворял такие штуки,
Что дивились взрослые порой.
Но когда, почувствовав силёнку,
Мирным ожиданьям вопреки,
Он задрал шальную собачонку,
Затужили наши мужики:
«Жалче хлопнуть экого повесу».
И свели беднягу за село.
«Поброди-ко ты, браток, по лесу,
Посмотри-ко разного всего».
Может, вырос некогда послушный,
Но погиб, я думаю, скорей.
Слишком добрым стал и простодушным,
Потому что жил среди людей.
* * *
Брали ягоду, рыбачили,
Чай варили на костре.
Жить, по сути, только начали,
Глядь — и осень на дворе.
Частый дождик хорохорится
Всё залить в один присест.
А, представь себе, не хочется
Уезжать из этих мест.
Лес, пока кормил морошкою,
Был нам дорог, как никто.
А теперь дружка хорошего
Так и бросим без пальто?
Речка потчевала рыбою,
Словно ласковая мать.
А теперь сказать спасибо ей
Да и удочки смотать?
Разве бросишь друга в горести,
В непогоду, в чёрный час?
Это было б не по совести.
Не в обычае у нас.
* * *
Побывали люди на Луне,
И на Марсе побывают тоже.
Побывать бы где-нибудь и мне,
И, возможно, побываю, что же...
Посмотрю на дальние края,
На природу их и на погоду.
Но боюсь, что затоскую я
По земле своей и по народу.
Это просто говорится так,
Что, куда хочу, туда и еду.
А тоска по родине — пустяк?
По отцу, по матери, по деду?
Как это устроено в душе,
Объяснят ли разные словечки?
Лишь бы дома, пусть и в шалаше,
Пусть и не у моря, пусть у речки.
Пусть она едва журчит у ног,
И над нею не шумят ветрила,
Но её певучий говорок
Внятен мне — она меня вспоила.
Лягу под берёзой слушать птах,
Вновь её весна принарядила.
Милая моя, в твоих лаптях
Вся Россия в люди выходила!
Побываем за границей, что ж...
Может, там края красивей даже.
Но куда от родины уйдёшь?
Разве в землю родины — не дальше.
* * *
Поредела моя родня.
Нет ни деда уже, ни бабки,
И отца уже нет у меня...
Мы всё чаще снимаем шапки
На могилах близких людей.
Да и сами пришли к порогу,
Когда сердце болит острей.
И на прожитую дорогу
Смотришь пристально — так ли жил,
Тем ли идолам ты молился,
И тому ли делу служил,
И чего в том деле добился?
А на будущее — заметь —
Мы уже дела выбираем,
Чтобы выполнить их суметь
Перед смертным, последним краем.
Поредела моя родня,
Не забыта её работа.
Вот бы этак и у меня...
Жить охота и петь охота!
* * *
Подлунный снег и тени на снегу
Да лёгких санок песня заливная.
Вся под крутую устремясь дугу,
Лошадка индевеет на бегу,
Насторожённо уши прижимая.
Сквозь редкий лес маячит огонёк... —
Но, милая! Осталось недалече!
А там тебе сенца подкину впрок,
Потом и сам усядусь за чаёк
И спать прилягу на привольной печке.
Но, умница! Бери пошире рысь,
Не то полозья навевают дрёму.
Давай, давай, родная, шевелись!
Ведь дома нас, наверно, заждались,
А пуще мы соскучились по дому.
* * *
До свиданья, родная сторонка!
Чемоданчик в руке и билет.
Откровенно, слезами ребёнка,
Мне заплакала девушка вслед.
Отвалил пароходишко ветхий
От знакомых домов и берёз,
И, весёлый, по палубе верхней
Я шатался, не слишком тверёз.
И поехала жизнь, завертелась!
Чемоданчик потёрся, ну что ж...
Не скрываю, порою хотелось,
Чтобы времечко, глупое сплошь,
Воротилось!.. Но разве вернётся!
А не верить нельзя – потому,
Может, счастье ещё улыбнётся,
Да и сам улыбнёшься ему...
* * *
Бабочка уснула за окном.
Может быть, и мы дела забросим?
Милая, давай-ка отдохнём,
Самовар поставим... Что нам в том,
Что отныне наступила осень.
Что нам в том, что отошли цветы,
И скворцы про нас забыли дружно,
От гостей все комнаты пусты...
Двое нас осталось — я и ты.
Мне для счастья большего не нужно.
* * *
Полжизни прожил,
Не умея жить.
Со мной всегда
Семь пятниц на неделе!
Мне предлагают
Опыт одолжить
Те, что имеют опыт
В этом деле.
Один
Ходить умеет по кривой,
Другой
Полезные знакомства копит...
Но как непросто
Быть самим собой,
Перенимая
Столь холодный опыт.
Запоминаю, слушаю, молчу.
Хотя наука
Туго подаётся.
А сам
Людей чему я научу,
Коль буду пить
Из всякого колодца?
Живая жизнь —
Она не такова!
Она вольна,
Как заоконный ветер!
А опыт виснет,
Словно жернова,
На шее тех,
Кто знает всё на свете.
Да и чего
С меня, конечно, взять?
Мне этот опыт
Тягостен и скучен.
Пойду-ка я
Куда-нибудь гулять,
Всему учён,
Но не всему научен.
* * *
Сидим, почёсываем темя,
Открещиваясь от забот.
Теряем золотое время,
А время знай себе идёт.
Дела откладывать на завтра
Мы привыкаем день за днём.
Но вот подступит время жатвы —
И что тогда мы запоём?
Чем будет оправдать беспечность
В делах и помыслах своих?
У мёртвых — да, в запасе вечность,
Иные сроки — у живых.
А кажется таким удобным
Твердить, что слава — это дым,
Что не помянут словом добрым,
Как не помянут и худым.
Но нет, наедине с собою
Любого пробивает дрожь,
Когда вечернею порою
Заводит песню молодёжь.
А ты как будто подпеваешь
И с хором слиться норовишь,
А сам и слов её не знаешь
И лишь губами шевелишь…
* * *
Я сочиняю стихи про желтые листья...
А. Яшин
Жёлтые листья
На чёрной осенней воде,
Рваные тучи
Над рваной,
в пролесках, землёю.
И ощущение:
Быть неминучей беде —
Неумолимое,
Ходит и ходит за мною.
Что удивительно —
Даже грачи не кричат
И журавли
Не приветствуют нас на пролёте!
Даже дымы деревенские
Нынче горчат,
Клюква — на что! —
Но и той
Не сыскать на болоте.
Родина милая,
Что ты скрываешь свой лик?
Чем, неразумные,
Мы тебя столь прогневили?
Может, в лесу испоганили
Светлый родник,
Или же в душах
Свои родники мы зарыли?
Не потому ли
Из мутных колодцев и пьём,
Дышим мы смесью
Наполовину из пыли?
Не потому ли
Всё чаще мы соло поём,
Что хоровые,
Священные перезабыли?
Что же тогда остаётся нам
В нашей беде
И за какою
Последовать дальше звездою?
...Жёлтые листья
На чёрной осенней воде,
Той, что от листьев
Становится горькой водою.
* * *
И снова праздник наш печален,
Да и нельзя наоборот:
Ведь мы не Новый год встречаем,
А провожаем старый год.
Ах, были шутки легкокрылы!
Но годы вороном летят,
И множат близкие могилы,
И чую, новые сулят.
А нас и так осталось мало…
Да что тут сетовать на жизнь!
Как говорил Рубцов бывало,
Коли поехал, так держись!
Нам время строгое не в диво,
Намяло шею и бока.
Оно, конечно, справедливо,
Коль время мерить на века.
Но и при шуме ветра злого,
Когда и тяжко и темно,
Пиши, мой друг, как будто слово
Тебе
Последнее
Дано.
Данная статья будет опубликована в журнале «Бийский вестник».