16 октября 2025
Слова, запрещённые в советское время: лексика, которая не проходила цензуру
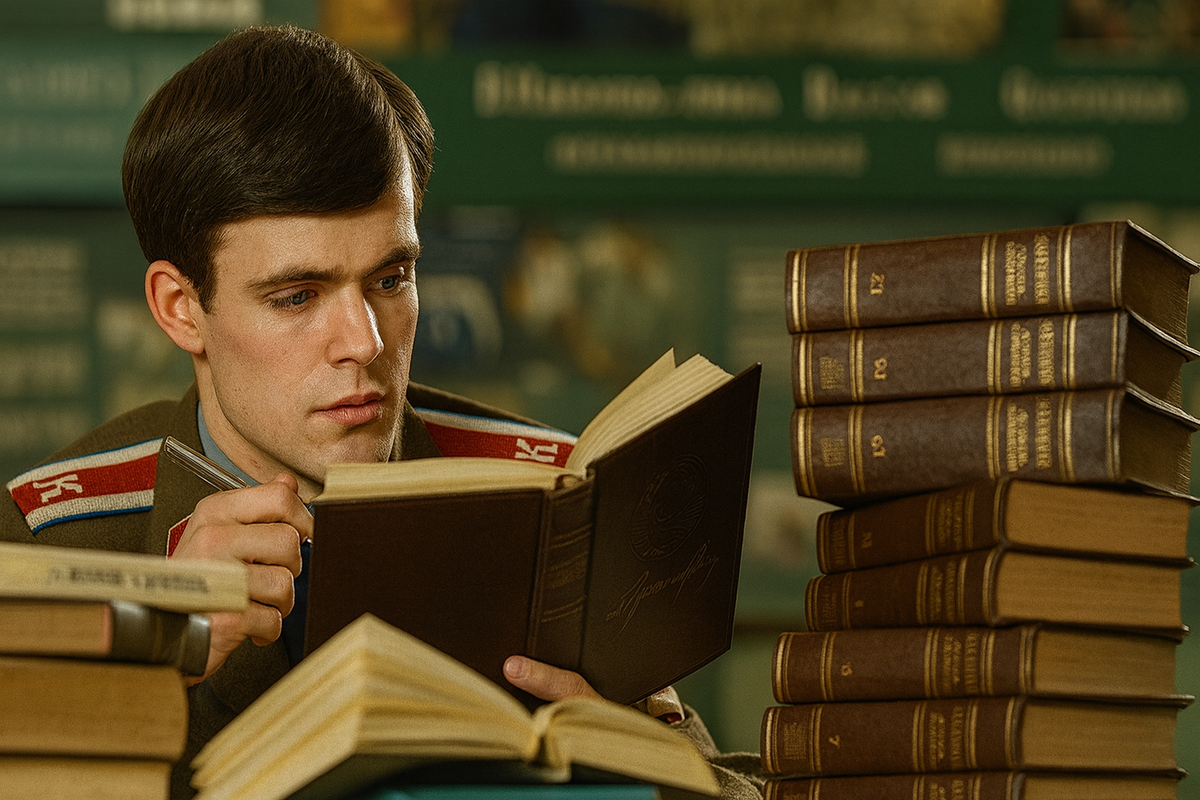
Советская цензура не была монолитной глыбой, застывшей в 1917 году. Она была живым, мутирующим организмом, который менял свои методы и цели в зависимости от эпохи.
В 1920-е годы она выжигала «буржуазный» лексикон, в 1930-е — стирала имена «врагов народа», а в 1970-е вела нудную позиционную войну с намёками и полутонами.
Проследить за этой эволюцией — значит понять, как власть пыталась сконструировать новую реальность, начав с её фундамента — языка. Это путешествие по десятилетиям, где каждое запрещённое слово — артефакт своей эпохи.
1920-е годы: революционная чистка и рождение Главлита
После революции большевики столкнулись с языком, пропитанным «старорежимным» духом. Началась тотальная лингвистическая чистка.
Что запрещали? В первую очередь лексику, связанную с социальным и духовным устройством Российской империи. Из официального языка исчезли обращения «господин» («госпожа»), «сударь» («сударыня»), «ваше превосходительство». Были упразднены слова, обозначавшие прежние институты: «гимназия», «лицей», «дума». Самый яростный удар пришёлся по религиозной лексике. Слово «Бог» стало маркером контрреволюционного сознания.
Как это работало? В июне 1922 года было создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит) — главный цензурный орган страны на последующие 70 лет. Изначально его задачей была борьба с «антисоветской агитацией» и разглашением военных тайн. Но очень быстро функции Главлита расширились до тотального идеологического контроля.
Иногда под запрет попадал не сюжет и не конкретные слова, а весь уникальный язык автора. Самый яркий пример — Андрей Платонов. Его косноязычный, вывернутый наизнанку язык, полный народных неологизмов и экзистенциальной тоски, был абсолютно несовместим с предписанным соцреализмом оптимизмом. Его главные произведения: романы «Чевенгур» и «Котлован» — были написаны в конце 1920-х годов, но увидели свет без купюр лишь в конце 1980-х. Цензура видела в самом стиле этого автора пародию на советскую действительность.
Филолог и культуролог Гасан Гусейнов в своей работе «Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х годов» отмечает, что в этот период происходило конструирование нового, «магического» языка, который должен был не описывать реальность, а творить её:
«Язык оказался для большевиков не просто средством описания мира, но и его проектом, планом. Словарь этого языка — не карта, составленная по территории, а территория, которая должна была возникнуть по заранее составленной карте».
1930–1950-е годы: эпоха террора и вычеркнутых имён
Период сталинского террора стал золотым веком политической цензуры. Теперь она не просто «чистила язык», а переписывала прошлое и настоящее в режиме реального времени.
Что запрещали? Главным объектом запрета стали имена. После показательных процессов и расстрелов из всех текстов, энциклопедий и учебников вымарывались фамилии Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Каменева и тысяч других «врагов народа».
Это была тотальная аннигиляция исторической памяти. Одновременно под запрет попали слова, описывающие сам террор. Термины «ГУЛАГ», «репрессия», «чрезвычайная тройка» были лексикой для служебного пользования и не могли появляться в открытой печати. Голод 1932–1933 годов был абсолютным табу, а любая попытка описать его расценивалась как контрреволюционная деятельность.
Как это работало? Цензура достигла абсурдного уровня паранойи. Литературовед и поэт Лев Лосев в своём эссе «О пользе цензуры» анализирует разгромную критику детского рассказа Михаила Зощенко «Приключения обезьяны». По сюжету обезьянка сбегает из зоопарка, но, столкнувшись с жестокостью и опасностями вольной жизни, в конце концов с радостью возвращается обратно в клетку. Критики и цензоры увидели в этом злую аллегорию: жизнь на свободе (в СССР) хуже, чем в неволе (в тюрьме). Безобидный детский рассказ был истолкован как клевета на советскую действительность. Лосев так описывал эту механику:
«Сталинская цензура занималась не столько охраной идеологической чистоты, сколько тотальной профилактикой. Подозрительным было всё, что могло породить неконтролируемую мысль. Запрещался не смысл, а возможность появления смысла».
1950–1960-е годы: «оттепель» и цензура полутонов
После смерти Сталина и XX съезда партии цензура ослабила хватку, но не исчезла.
Что запрещали и что разрешали? В язык вернулось слово «реабилитация». Стало возможным осторожно говорить об «ошибках периода культа личности». Однако под запретом оставался анализ самой системы, породившей террор. Цензура теперь боролась не с отдельными словами, а с «неправильным» настроением: пессимизмом, экзистенциальной тоской, индивидуализмом.
История с романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго» — идеальный пример цензуры «оттепели». В тексте не было прямой антисоветской агитации. Цензоров взбесил его дух: аполитичность героя, сосредоточенность на личных переживаниях, а не на классовой борьбе, а в довесок христианские мотивы. Редакция журнала «Новый мир» в 1956 году отказала в публикации со следующей формулировкой: «Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции». Публикация книги на Западе и присуждение автору Нобелевской премии в 1958 году привели к невиданной травле писателя.
1970–1980-е: «застой» и виртуозы эзопова языка
В эпоху Брежнева цензура стала рутинной, бюрократической и предсказуемой. Её главной задачей было поддержание видимости «развитого социализма», за которой скрывались дефицит, коррупция и идеологическая усталость.
Что запрещали? Под запретом были слова, описывающие системные проблемы: «застой», «дефицит», «коррупция», «катастрофа» (в применении к СССР). Тема секса оставалась табуированной. Официальный язык превратился в набор мёртвых ритуальных клише. Культуролог и философ Михаил Эпштейн так описывал вырождение официального языка в эпоху застоя:
«Советский язык превратился в систему знаков, которые обозначали не предметы реальности, а другие знаки внутри той же системы. Такие слова, как „партийность“ или „идейность“, уже не имели никакого отношения к жизни, они отсылали лишь к другим таким же словам в передовых статьях и лозунгах. Это было царство тотальной тавтологии».
Ошибки цензуры: как запретные слова вырывались на свободу
Именно в эту эпоху абсурдность цензуры порождала анекдотические ситуации, когда запретное просачивалось сквозь все фильтры.
«Мастер и Маргарита». В 1966―1967 годах в журнале «Москва» было опубликовано главное произведение Михаила Булгакова, пролежавшее в столе более 25 лет. Однако в журнальной версии роман был подвергнут тотальной цензуре.
Было вырезано около 12% текста: около 160 пропусков, самых острых и философских мест. Цензоры изъяли практически все упоминания о Боге, сцены бала у Воланда, ершалаимские эпизоды, критику советского быта и многие сатирические пассажи. Главной ошибкой стало то, что цензоры видели в романе лишь сатиру на московских обывателей 1920-х годов, но пропустили его глубинное, антитоталитарное содержание, библейскую притчу о борьбе добра и зла и вызов любой догматической власти.
В 1979 году, в разгар эпохи застоя, группа из 23 известных писателей, включая Василия Аксёнова, Андрея Битова, Фазиля Искандера и Виктора Ерофеева, создала литературный альманах «Метрополь».
Их целью было опубликовать свои произведения без цензурной правки, заявив о праве автора на свободу слова. Альманах не содержал антисоветской агитации, но сама идея неподцензурной литературы была воспринята как неслыханная дерзость.
Реакция властей была жёсткой и показательной. Тираж альманаха был рассыпан, а его участники подверглись гонениям. Виктора Ерофеева и Евгения Попова исключили из Союза писателей. Василий Аксёнов и Семён Липкин в знак протеста сами вышли из Союза.


