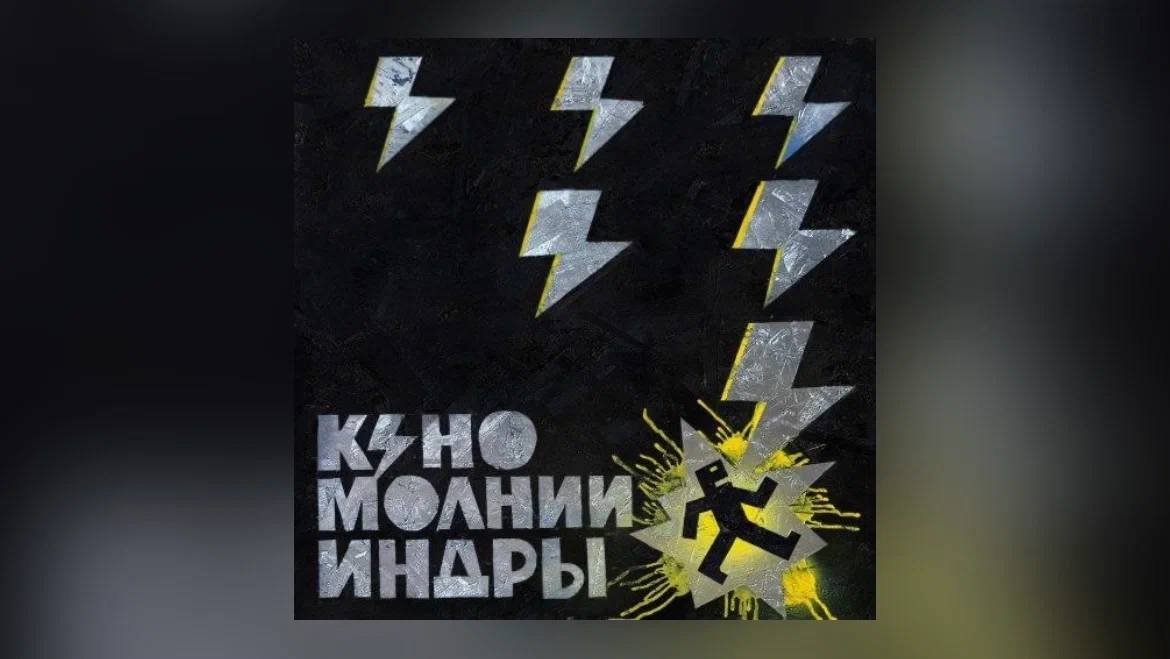18 октября 2025
Санькя и Сенькя: Заметки о творчестве Захара Прилепина. Часть 3
15 октября открылась Всероссийская научно-практическая писательская конференция «Большой стиль», которую проводит Союз писателей России. «Большой стиль» — это не просто разговор о литературном произведении, а попытка социокультурного осмысления реальности и проектирование будущего нашей цивилизации.
Подробнее о «Большом стиле» читайте тут
Все книги Захара Прилепина на «Литрес»
Андреев А.Н.
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России
Любовь пацана
Такой противоречивый персонаж, как Саша, должен был влюбиться – в Яну или в Веру, это уже детали. А в любви без рефлексии нельзя. Любовь в русской литературе является главным испытанием для мужчины и личности. И для писателя. Тестом на зрелость, если угодно. Почему?
Потому что любовь – умное чувство; я бы сказал – культурный проект. Чем больше ума – тем глубже чувство. Тем глубже человек. Вот Безлетов, к примеру, любовь «не потянет». И Негатив «не потянет».
Дело в том, что любовь – чувство, весьма чуткое к идеологическим настройкам. В Манифесте мы обозначили две наши основополагающие триады (которые можно символически объединить в пятиконечную звезду, тронутую Фаворским светом): «Родина. Правда. Победа» и «Родина. Личность. Счастье». Так вот, Негатив осилит, пожалуй, первую триаду. На это ума (то бишь интеллекта) хватит. Да, с Негативом можно смело идти в разведку. Или на митинг «союзников». Можно сражаться до последнего спиной к спине. Но он не в силах одолеть часть вторую, «Родина. Личность. Счастье» ему не по зубам. У него на такой подвиг – быть счастливым! – просто нет ресурса.
Безлетов не справится ни с первой, ни со второй триадой. Он способен разве что творить из святого карикатуры – может лишь глумиться и иронически ёрничать. У него, отравленного ядом скепсиса, нет ресурса взращивать идеалы. Негатив, Позик, Скептик – одного невысокого культурного сорта ягоды. И фамилия доцента, начинающаяся с отрицающей все на свете приставки «без», на это явно намекает.
Кстати, с таким ресурсом писателя, как поэтика имен (а также детали, детали, конечно), Прилепин работает на диво эффективно. И эффектно. Признак литературного мастерства, однако.
И Негатив, и Скептик – люди простые. Как Хомут. А счастье дано вкусить лишь Личности, с тонкой, то есть сложной, душевной организацией, следствием работы ума. Счастье – плод не запретный. Но поди, дотянись…
Как бы чего не вышло.
Любовь могла дать Саше шанс – шанс на Счастье как ценность нашей цивилизации. Ведь он за этим вступил в «Союз» и ходил на митинги, нет? Или роман писался для того, чтобы довольствоваться простыми ответами простых людей? Нет?
Тогда для чего?
А для того, по мне, чтобы показать, что простота хуже воровства – хуже философии, и даже политики. Хуже простых, ненавидимых из-за сермяжной простоты же «ментов» и президентов.
В «Туме» любви нет. Я без всяких намеков на то, что Прилепин «не умеет в любовь». Я про то, что в «Туме» любви нет. И это не случайно.
Физическая сторона любви в «Саньке» описана замечательно, с чувством меры (сцену воспринимаем глазами мужчины, естественно). С оттенками нежности, что является знаком тоски по любви. Несколько физиологично, да. Зато по-честному. Без вранья. Все получалось как бы само собой. Как и все в жизни до этого.
Психологическая сторона – победнее, потому что с духовной стороной любви у Саши явные проблемы. Ну, встретил Яну. Ну, Волга впала в Каспийское море. Как-то так, удачненько. И что дальше?
Допустим, женщина загадочна, как море (хотя Яна, с лицом «как открытый перелом», «была похожа на ящерицу»). И что из того? Что следует?
Любви, по большому счету, в романе не случилось. Так, эпизод в жизни пацана. Или девчонки. По ходу жизни. По чьей вине не случилось? Автора? Саньки? Яны?
Это не имеет значения. Имеет значение, что Санькя и любовь – оказались несовместимы. И Яна не создана для любви. Неожиданное заявление девушки, похожей на хладнокровную ящерицу, «я не люблю детей» только на первый взгляд кажется неожиданным. Из того, что читатель узнает о ней, можно сделать следующий вывод: она не любит ни себя, ни Саньку, ни кого бы то ни было, ни даже саму жизнь. Она не способна любить в принципе. А вот с ненавистью у нее отчего-то все в порядке. Святая простота. И это превращает ее в своего рода революционную шлюху. И нашим – и вашим. То минут на десять уединится с «ментом» в подъезде (и ее отпустят, а всех остальных «заметут»), то из ФСБ выходит (как так, что она там делала?).
При этом – любовница вождя, по слухам. Любить такую в принципе невозможно. Для Личности, обладающей умом и, вследствие этого, чувством собственного достоинства, невозможно, я имею в виду. «Отчего меня взяли, ты не знаешь? – спросил он вдруг. – Тебе не кажется, что ты меня пропалила? Что из-за тебя все?» Как любить гюрзу, в смысле ящерицу?
Думая о характере Негатива, Саша «вдруг понял»: самым главным было «врожденное чувство внутреннего достоинства». Это неверно. Чувство достоинства не бывает врожденным. Только приобретенным. За счет ума.
Он и она оказались слишком просты для умного чувства. Не черствы, суровы, зажаты – вовсе нет. Именно – просты. Потенциально самый яркий и сложный эпизод романа оказался разочаровывающе скучным. Это была скрытая кульминация – возможность «запустить» эволюцию картины мира героя (романные герои такой возможности не упускают).
Реальной кульминацией романа (точкой сборки смысловых линий) стала эпическая пытка Саньки «в конторе» (в милиции, или где там, потом «на природе»), которой отведено куда больше времени, места и значения; а после пытки – появилось намерение убить судью, присудившего Негативу пятнадцать лет тюрьмы. Реальная кульминация последовала практически вслед за скрытой. Звенья одной цепи. Зверские пытки с жуткими подробностями, исполненные с матерым, сладострастным садизмом, длятся бесконечно – они растянуты на целую главу (Глава 7). Пытают не только Саньку, но и читателя, и саму культурную природу человека. Именно после пытки Саньке закрадывается в голову мысль об убийстве судьи в Риге. Око за око, зуб за зуб. Зуб, кстати, Саньке во время пытки выбили. Библейский мотив был.
Перекличка с «Тумой» не просто очевидна – демонстративна. Глава седьмая и начало восьмой – как цитата из «Тумы». И с сермяжной правдой не поспоришь. Любовь – персональное достижение человека, до светлого и умного чувства надо дорасти. А жестокость дана человеку с рождения, он несет ее печать как родовую отметину.
Реальный человек прост, потому и жесток.
Сложный человек, умеющий любить, – это миф о человеке. Так, что ли?
Бунтовать легче и проще, чем любить, если просто. Такова версия чувства.
Концепция романа
Уже один только композиционный прием – монтаж эпизодов, из которого следует, что жестокость превыше любви, – заставляет задуматься о, с позволения сказать, концепции романа.
Саньку бы слово «концепция» точно покоробило. Писателя, скорее всего, тоже. Но сермяжная (то есть простая, поверхностная, но при этом касающаяся глубины) правда литературоведения заключается в том, что роман по определению является носителем концепций, нравится это самим романистам или нет. Заканчивается сермяжная правда там, где над концепцией романа начинает возвышаться и довлеть универсальная концепция (закон культуры!), которая либо дает содержательность романной концепции, либо лишает эту концепцию содержательности.
В какую сторону заставляет думать «Санькя»?
К каким идеям он подводит?
Жизнь как таковая, которая откуда-то вытекает и куда-то впадает, как Волга, – вот вам и вся концепция. Главная идея – отсутствие, слава богу, идей. Так? Допустим.
Универсальная концепция опирается не на иллюзию самоочевидности, а на закон, суровый, но справедливый. Солнце крутится вокруг Земли, река Волга впадает в море – это железобетонная иллюзия самоочевидности, не требующая никаких доказательств. Хочешь убедиться – иди и посмотри. Уважай здравый смысл – и все, больше ничего не надо.
Закон же (проекция объективности) гласит: это Земля крутится вокруг Солнца, хотя всем кажется, что наоборот. Волга в романе впадает туда, куда ей и следует впадать, и определяется это не жизнью, а картиной мира (хотя всем кажется, что жизнью). Вот я, здесь и сейчас, в оптике универсальной картины мира (закона) рассматриваю концепцию романа. При этом всегда держу в голове маленькую поправку, прививку от самоуверенности: универсальная оптика не божественный, а вполне человеческий инструмент – и, конечно, ничто человеческое мне не чуждо. Искажения возможны, да.
И все же: оптика романа отдельно, универсальная оптика – отдельно. У Пушкина в «Евгении Онегине» они совпали. Этого достаточно, чтобы принять в качестве закона: в универсальной оптике писать можно. Да, в идеале. Но – можно. Доказано. Дело здесь не в Онегине, а в законе, если вы понимаете, о чем я. И этот закон я пытаюсь приложить ко всем творениям литературы – которые хоть в какой-то степени закону соответствуют.
С Санькой более-менее понятно. А что же «Санькя»?
А «Санькя» – это Санькя; это честная, достойная культурного внимания попытка развернуть Волгу и заставить ее течь туда, куда надо, – в Каспийское море, ясное дело. Проблема Саньки не «менты», и не президент, и даже не жизнь как таковая. Проблема Саньки – он сам. Он – крайний, и он же – начало начал.
Если прочитать роман в таком, универсальном ключе, то «Санькя», безусловно, классная и стоящая вещь. Этот ключ открывает двери культуры, ведущие не на Эдемские поля и кущи, а в лабиринты, ходы которых еще не освоены нами. Ну, вот Пушкин «сунулся», пропел гимн со слезами на глазах «приятелю младому и множеству его причуд» – и «приятелю» (Онегину) сразу прилепили: «лишний».
А Санькя не лишний? Разве он не Саша? Не Александр? Не царство, которое «разделяется в самом себе»? Не сознание VS чувство?
К счастью для Саньки, автора и читателей, он лишний, ибо вплотную подобрался (возможно, вслед за философом-отцом) к лабиринту, этому проклятию и спасению человека. Лабиринт не кривая, которая куда-нибудь да вывозит и впадает. У лабиринта свои законы.
Что такое познай себя?
Познай лабиринт. Поживи в нем и уцелей. Еще та пытка.
Роман – лабиринт. Повесть (нравоописательная) – кривая.
В сермяжной стилистике – так.
Ни на что, опять же, не намекая, пытаюсь следовать твердыне закона. Поздний Лев Толстой, автор романа «Воскресение», продемонстрировал нам затухание потенциала великого Толстого, автора «Войны и мира». И «мальчишка» Лермонтов, автор «Героя нашего времени», смотрится куда интереснее и актуальнее автора «Воскресения» (но не «Войны и мира», определенно). А почему? Потому что объективнее трактовал магистральное противоречие культуры сознание VS чувство.
Что я хочу сказать?
Ранний Прилепин, автор «Саньки», в известном смысле превосходит позднего Прилепина, автора «Тумы» (хотя кажется, что наоборот, понимаю). Начало единого долгого романа (и дай Бог продолжения, конечно) в концептуальном отношении круче романа «крайнего» (на данный момент последнего), хотя «крайний», без сомнения, ярче, ярче – конец как бы затмевает начало. Хвост виляет собакой.
Сложность спасет мир, но никак не простота и не красота. Кстати, красота сложна, если судить, в частности, по роману Захара Прилепина «Санькя».
Этим романом Прилепин как писатель первого ряда дал шанс и себе. Но поскольку продолжением «Саньки» стала «Тума», шансом этим воспользоваться не спешит. Возможно, пока не спешит.
Так или иначе, после «Тумы» мы смотрим на «Саньку» иначе. После «крайнего» романа и на его фоне первый смотрится крупнее, значимее, дерзче, чем смотрелся до «Тумы». Такой вот ментально-оптический эффект. Простой с виду «Санькя» устроен сложно – и технологически (в стилевом отношении), и в отношении организации смыслов.
И это хорошо. Роман, смыслы которого лежат на поверхности, недолговечен, его прочитают, массово похлопают в ладошки и дружно забудут. Память массового читателя коротка. Гарантия долгой жизни романа – скрытые, не выявленные сегодня (по разным причинам) смыслы, ядро которых – сознание VS чувство. Чем больше скрытых смыслов – тем долговечнее роман. Просто, не так ли?
Вам это действительно кажется пустячком, проекцией простоты?
Кстати, простота является не чем иным, как проекцией пустоты.
Где-то здесь я бы остановился, чтобы совсем уж не отрываться от всех…
Между прочим, о пустоте я не для красного словца ввернул, я много об этом писал.
Кстати, в романе о пустоте сказано так (это мысли Саньки в минуты умственного прозрения): «Человек – это огромная шумящая пустота, где сквозняки и безумные расстояния между каждым атомом. (…) И мы точно так же живем внутри страшной, неведомой нам, пугающей нас пустоты. (…) И каждый будет наказан, и каждый награжден, и ничего нельзя постичь, и всё при этом просто и правильно». (Глава 8)
Вот это сермяжное псевдобиблейское «и ничего нельзя постичь, и всё при этом просто и правильно» и является проекцией пустоты. Что такое пустота? Отсутствие смыслов. Уберите сознание и оставьте чувство. Получите пустоту. У Саньки с повествователем пустота подозрительно напоминает опору – замену смыслов на нечто большее. На что?
Неважно. Важно то, что человек ищет опору. Если не на что опереться, он умудряется опереться на пустоту. На чувство.