Чужой среди своих в параллельной реальности (заметки о романе Захара Прилепина «Тума»). Часть 1
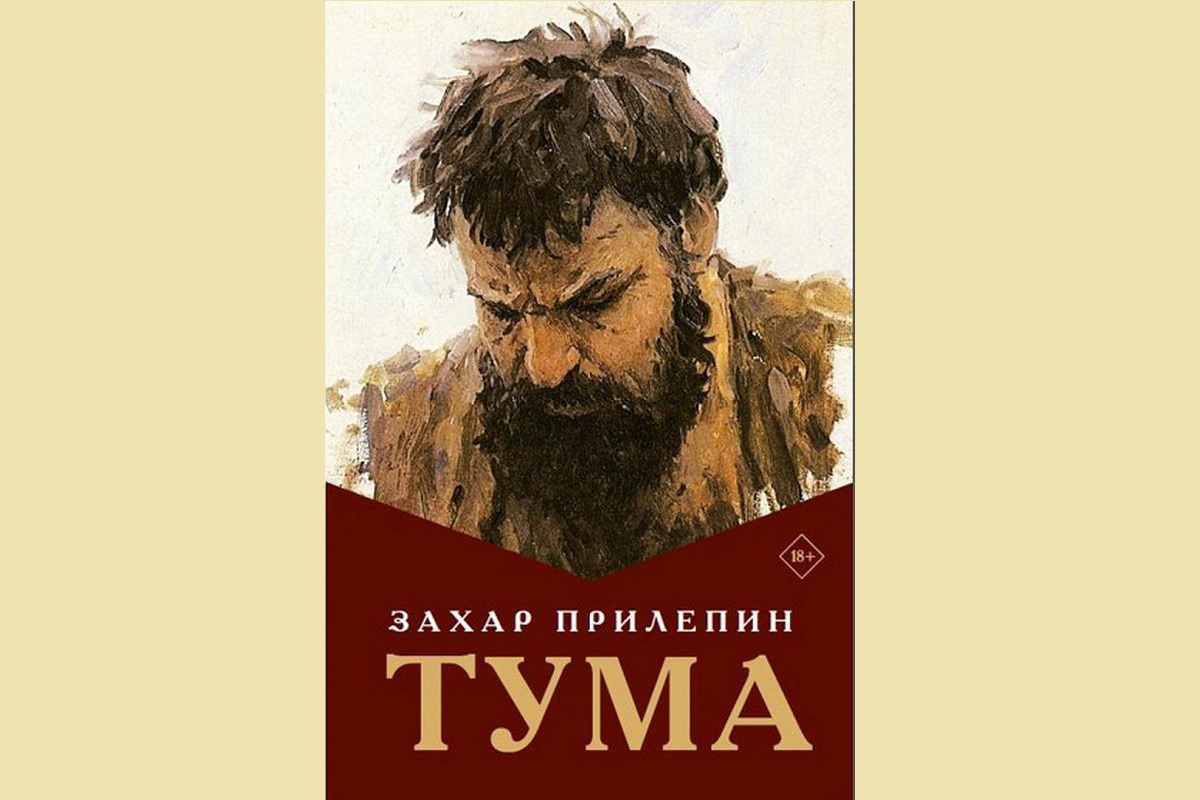
15-18 октября состоится Всероссийская научно-практическая конференция писательская конференция «Большой стиль», которую проводит Союз писателей России. «Большой стиль» – это не просто разговор о литературном произведении, а попытка социокультурного осмысления реальности и проектирование будущего нашей цивилизации. Мы открываем этот разговор статьёй Анатолия Николаевича Андреева о романе Захара Прилепина «Тума».
Подробнее о «Большом стиле» читайте тут
Все книги Захара Прилепина на «Литрес»
Андреев А.Н.
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России
Какова рыба – такова и сеть
В 2025 году вышел роман Захара Прилепина «Тума» (издательство АСТ).
«Тума» уже натворил столько шума, что сделать вид, будто роман представляет собой всего лишь очередной раскрученный опус, – ну, вышел и вышел, и что с того? – просто невозможно. Это не тот случай, когда много шума из ничего и ни про что. Книга Прилепина определенно стала литературным событием: ее читают, обсуждают, восхваляют, – причем, порой настолько неумеренно, азартно ставя на кон свою репутацию, что не слишком уверенные в себе читатели растерянно помалкивают.
Создается ажиотаж: уж с чем с чем, а с медиатехнологиями у нас все в порядке. Они работают.
В подобной ситуации, хотим мы того или нет, книга становится вызовом, становится своего рода меркой или реперной точкой – точкой отсчета в нашем, слава богу, начинающем бурлить литературном процессе, который мы хотим превратить в «Большой стиль» (во всяком случае, лично мне этого хотелось бы).
Однако ажиотаж ажиотажу рознь. Искусственное раздувание несуществующих «феноменальных» достоинств книги неизбежно и быстро спадет, как много раз уже бывало в подобных случаях. Было – и сплыло. Кто сегодня помнит «шедевры», еще вчера шумно мозолившие всем глаза?
«Тума», на мой взгляд, по своим достоинствам заслуживает ажиотажа. Открытый разговор на повышенных (то есть не вполне еще объективных) тонах к лицу этому роману, этой яркой косматой комете, ворвавшейся в русский литературный мир.
Время, безусловно, все расставит на свои места (хотя иногда, увы, с большим опозданием). Но ажиотажное начало – это уже в биографии книги.
Что такое «Тума»? Откуда она взялась? Как ее прикажете понимать? И что вообще происходит? Что нам «Тума», что мы «Туме»?
У меня нет намерений «задать повестку» в обсуждении книги; все проще и прозаичнее: я постараюсь быть максимально объективным (в соответствии со своим субъективным ресурсом). Ибо: зачем анализировать явление, если не стремишься к объективности?
С другой стороны, избранный мною жанр эссеистических «заметок» указывает на то, что я отдаю себе отчет: сложно быть объективным по горячим следам; невозможно сохранить ровный пульс в состоянии всеобщего ажиотажа; лицом к лицу – плохая позиция для бесстрастного анализа.
Стремление к объективности, на мой взгляд, начинается с наведения порядка в информационной технологии. Объективности не бывает без внятных критериев, без понятной «навигации». Важно выставить критерии, по которым оценивается произведение. В литературоведении, критике, да и в литературе бывает именно так: вначале, еще до слова, до предложений и текста, выставляются критерии (сознательно или бессознательно – это уже другой поворот темы). Только в критике критерии называются «методология», а в литературе – «замысел». В критике автор изначально понимает, куда и каким путем он двигается, подчиняя все логике сознания. В литературе автор часто оказывается пленником своего возникшего в недрах бессознательного «замысла».
Критик должен понимать, отдавать себе отчет в своих действиях; писателя же замысел и его реализация волнуют больше, чем критическое к ним отношение. Если воспользоваться метафорами, инструментом писателя, то критик – «ихтиолог» (исследователь, который изучает природу и способы жизнедеятельности рыб); писатель – «рыба».
Соответствие «методологии» и «замысла» в известной степени можно считать критерием объективности. Какова рыба (писатель) – такова и сеть (методология). Если сеть мала или дырява, крупную рыбу не поймать. С другой стороны, с гарпуном на пескаря не ходят.
Итак, теперь о критериях с точки зрения критика. Их два. 1) Качество смысла (писатель обладает картиной мира, интересной, как минимум, его современникам; писателю есть, что сказать); 2) качество передачи смысла (писатель умеет писать, создавать стиль).
Там, где два, уже возможно рассогласование. Например, писателю есть, что сказать, но он не умеет писать. Или: писатель умеет писать, но ему нечего сказать.
Конечно, возможно и согласование позиций (вариант их гармонического «сплава»): писателю есть, что сказать, и он умеет писать. Но это в идеале. На деле мы почти всегда имеем дело с индивидуальным (оригинальным) вариантом рассогласования. (Оговоримся: мы имеем в виду талантливые произведения, к которым в принципе применимы критерии; про гарпун и пескаря в этой связи мы уже сказали).
Первый критерий содержательный, ценностный, культурный. Писатель не может произвольно выставлять ценности культуры, подменять их, манипулировать ими, крутить-вертеть как ему заблагорассудится. Это критерий объективный. Писатель может соответствовать или не соответствовать этому критерию, но он не может подгонять его под себя или отменить его. Если писатель ориентируется в ценностях культуры, которые позволяют ему создать свою оригинальную картину мира, то он готов ею поделиться: писателю есть что сказать.
Но не картина мира сама по себе создает писателя (хотя без нее писателем стать невозможно).
Второй критерий стилевой – формальный, если так понятнее. Здесь, так сказать, начинается царство творческой свободы писателя. Здесь он волен творить чудеса (если может, если ему дано). Это критерий субъективный. Стиль действительно обладает потенциалом самоценности, и даже если по меркам культуры писателю нечего сказать, по меркам стилевым он имеет шанс сохранить за собой статус феномена литературы.
Писателя писателем делает стиль (не смысл сам по себе, не картина мира как таковая).
Далеко не все писатели обладают картиной мира, достойной просвещенного внимания читателей и критиков; но все великие писатели такой картиной мира обладают по определению. Культура безжалостна. Она, как и все на свете, палка о двух концах: может быть либо ядом, либо лекарством. Чем ближе, условно говоря, писатель подобрался к ценностному ядру культуры (существующему независимо от него), тем больше возможностей открывается для стиля – возможностей стать ярким, самобытным, оригинальным. Да, стиль, повторим, может быть «отлучен» от ценностей культуры, не переставая при этом оставаться стилем, обладая «лица необщим выраженьем» (блестящая формула Боратынского), качеством узнаваемости «по завиткам» – по тому, что Блок точно и образно назвал «талантливые завитки вокруг пустоты». Но сами по себе завитки это одно, а завитки как вещество содержания – совершенно другое. Функции разные. Стиль стилю рознь.
Литература существует в диапазоне возможностей, располагающих между полюсами «умеет писать, создавать стиль, не обладая глубокой картиной мира», и «обладает глубокой картиной мира, не владея искусством создавать стиль». При этом количество умеющих писать многократно превышает количество мыслящих, но не умеющих писать. Отсюда кажущийся «очевидным» эффект литературы: главное стиль, «необщее выраженье» твоей музы, все остальное от лукавого.
На самом деле главное «стиль как способ существования содержания», а все остальное действительно от лукавого.
Сказанное нами, вроде бы, просто, почти общее место; но почему-то понимают это немногие, а усваивают и того меньше. Не удивительно: в общих местах всегда кроется глубина – идеологическая глубина.
К идеологии (любой) применимы те же критерии, что и к литературе (что, собственно, и делает литературу формой идеологии): качество «картины мира» (идей) и качество «матрицы» (сила веры в идеи).
Писатели, умеющие создавать стиль на основе понимания, оказывают влияние на наш культурный код, на качество картины мира. Это великие писатели, авторы великих произведений, список которых чрезвычайно краток. Десяток, полтора десятка имен, не более. При этом по длине списка (по «индексу величия») русская литература не имеет себе равных в мире. Так, на всякий случай. Чтобы не писать иллюзий. Во главе списка – Пушкин, создатель романа в стихах «Евгений Онегин», возглавляющего список шедевров мировой литературы. (Если краткость – сестра таланта, то допускаемая мною категоричность – двоюродная сестра краткости. Хочешь быть кратким – приходится быть категоричным. Это я себя не хвалю, а утешаю, если что.)
Писатели, формирующие нашу матрицу (идеологическую среду обитания), нужны, важны, необходимы, хотя к пантеону великих их не причислишь. Список их достаточно длинный, порядка нескольких десятков.
А есть просто хорошие писатели, актуальные и интересные в той ли иной степени. Их счет идет уже на сотни. Это «гумус» нашей литературы, бесценный плодородный слой культуры, без которого не случится ничего великого.
Такова наша литература – многослойная, многоуровневая, противоречивая и цельная в своей противоречивости.
Вот теперь мы готовы к тому, чтобы содержательно поговорить о «Туме».