Чужой среди своих в параллельной реальности (заметки о романе Захара Прилепина «Тума»). Часть 2
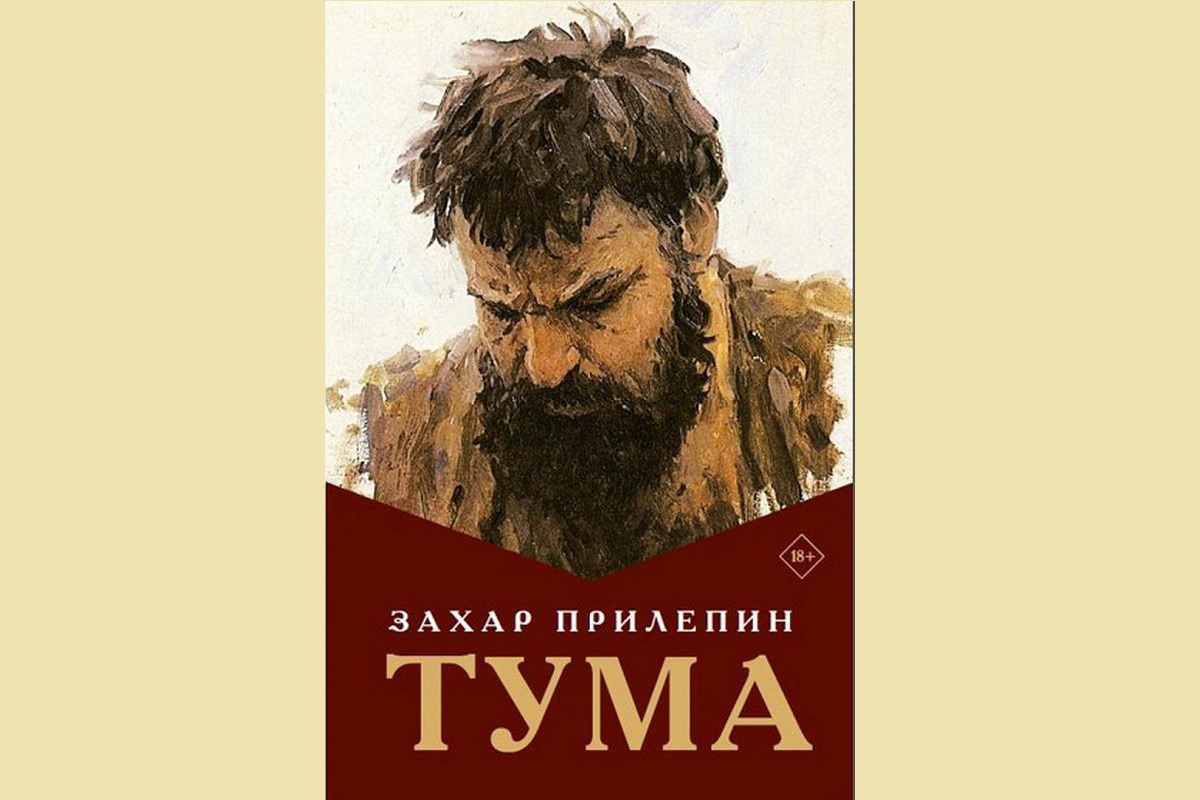
15-18 октября состоится Всероссийская научно-практическая конференция писательская конференция «Большой стиль», которую проводит Союз писателей России. «Большой стиль» – это не просто разговор о литературном произведении, а попытка социокультурного осмысления реальности и проектирование будущего нашей цивилизации. Мы открываем этот разговор статьёй Анатолия Николаевича Андреева о романе Захара Прилепина «Тума».
Подробнее о «Большом стиле» читайте тут
Все книги Захара Прилепина на «Литрес»
Андреев А.Н.
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России
Хвост виляет собакой. Что тут поделаешь?
Что является безусловно сильной стороной романа (издательство обозначило жанр как «эпический роман»)?
Стиль. Дар изобразительности и выразительности явно превалирует над даром концептуальным, хотя кажется, что наоборот. В свое время А. Ахматова очень точно охарактеризовала роман в стихах А.С. Пушкина как «воздушную громаду». «Евгений Онегин», невероятно сложный по концепции (философско-антропологической и социальной), производит впечатление легкости и воздушности, кажется невесомым и парящим, «легкомысленным», не заумным, а остроумным – и все благодаря изящности и бездонной глубине формулировок. Тяжеловесность философии обманчиво завуалирована стилем (хотя на самом деле «ажур» стиля является формой существования «громады»).
Так вот роман Захара Прилепина – сразу, без обиняков – хочется назвать «громадной воздушностью», то есть «воздушной громадой» наоборот. Кажется, что идейная конструкция многомерна, противоречива и глубока, а на самом деле все ровно наоборот: мыслей, перетекающих (или замерших в моменте перетекания) в идеи, много, а концептуальность, в литературе всегда связанная с персоноцентрическим началом, не тянет на громадность и универсальность.
Ранее в своей литературоведческой практике подобную характеристику я применил по отношению к роману «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. «Воздушная громада», в моем понимании, это не оценочное суждение; это указание на «родовую особенность дискурса», а вовсе не на недостаток романа. Нельзя же, на самом деле, считать недостатком романа то, что он не настолько велик-громаден, как кому-то хотелось бы. Трудно сказать, какое место займет «Тума» в великой русской литературе; с уверенностью можно сказать пока только одно: это блистательно написанный в своей оригинальной поэтике текст.
В русской литературе достаточно много произведений подобного типа, где дар формулировать смыслы бледнеет перед даром выразительного описания. Форма превалирует над содержанием. Хвост начинает вилять собакой. Что тут поделаешь?
А ничего не надо делать. Это не ситуация, требующая цензурирования или вмешательства. Скорее, мы имеем дело с естественным порядком вещей. Это нормальная ситуация для всей мировой литературы. Либо яркий стиль, выражающий глубину содержания, либо яркий стиль, скрывающий отсутствие глубокого содержания, если не пустоту. «Золотой век» русской литературы культивировал управление смыслами через стиль; «серебряный век» в значительной степени «отъединил» стиль от содержания, культивируя стиль ради стиля. По крайней мере – искусно завуалировал жесткую зависимость стиля от содержания. Сегодня каждый значительный писатель так или иначе вынужден искать свой уникальный рецепт сплава «злата-серебра». Даже «кевларовый век» (те, кто в теме, меня поймут, кому надо – загуглят) – это сплав золотасеребра. Даже желеZный. Любой. От этого вызова литературы не уклониться никому: ни великим, ни популярным.
Каждый писатель ищет свой уникальный сплав – необщий в общем веке.
А сейчас обратимся к закономерности, выражающей «жесткую зависимость»: чем ярче стиль – тем проще подобрать ключи к оригинальной поэтике (хотя кажется, что все ровно наоборот; серебряного века парадокс-с, одна из основополагающих традиций русской литературы).
В романе, строго говоря, ничего не происходит из того, что должно происходить в романе. (Да и роман ли «Тума»? К этому непраздному вопросу мы еще вернемся. Пока же будем называть книгу так, как указано в титрах.)
Степан Разин, 27 лет от роду, находится в плену в Азове у «османов», у янычар – покалеченный, изувеченный (ему «топорком» разбили голову, поломали руки и ноги), буквально собираемый по частям лекарем-греком. С этого начинается роман. При этом пленник старательно, с какой-то тайной, неочевидной целью вспоминает свою жизнь до плена, прошедшую в казачьей станице Черкасской.
Фрагменты неспешной причудливой жизни в плену и бытия до плена переплетаются, сплетаясь в тугую плеть, находящуюся в руках жестокого Хроноса. Композиционно пласты времени буквально свиваются (образуя композиционный «каркас» текста). Мы понимаем, почему Степан стал таким, как стал. Он – порождение своей среды. Ее слепок. В нем нет ничего личного; вернее, его индивидуальные черты только подчеркивают в нем всеобщее начало.
Как и при каких обстоятельствах Степан попал в плен в Азов (Аздак, по турецки), мы узнаем только в Главе седьмой (всего в романе восемь глав), ближе к финалу повествования.
Обстоятельства были такие. Степана предал Тутай, оказачившийся, казалось бы, ногаец. «Привёл ногайских людей, по сговору».
Ближе к концу романа Степан «встретил ангела»: был чудесным образом спасен. Получается: Степан находился в плену, проживая при этом свою прежнюю жизнь, словно готовясь к смерти.
Или – к другой жизни?
В воспоминаниях мы видим тщательно выписанный быт, буквально: бытописание; мы видим описание нравов, нравоописание. Среда, в которой формируется главный герой, превращаясь при этом в элемент среды, явно важнее для повествователя, чем законы формирования картины мира героя. Смыслы мало и слабо участвуют в становлении характера героя. Вот почему сюжет (череда событий, влияющих на мировоззрение) играет далеко не главную роль; вот почему психологизм как «механизм» внутреннего преобразования героя тоже не особо не востребован (хотя и заметен: куда ж без него в литературе современной).
На чем держится текст такого, этологического (нравоописательного), типа?
Исключительно на композиции как элементе стиля «громаду» прилепинского текста не удержать; текст держится, в первую очередь, на лексико-морфологическом и интонационно-синтаксическом «остове»: именно такая стилевая комбинация является стилевой доминантой. Уберите такую лексику и такой синтаксис – и текст развалится, исчезнет.
С помощью подобных – лирических, по сути, – стилевых средств «громадность» смыслов не создашь; зато есть возможность создать впечатляющую «громадную воздушность».
Прежде всего бросается в глаза такой прием: виртуозное жонглирование несколькими десятками диалектизмов и архаизмов, непонятных современному читателю (но об их значении легко можно догадываться из контекста). Казалось бы, они должны утяжелять текст (приходится переводить со старого русского на современный русский); однако главная функция у этого приема иная: архаизмы в связке с синтаксисом «старят» текст, придавая ему, опять же, экзотическую «винтажность» и выразительность. При этом сама технология актуализации ретро воспринимается уже как прием современный. В основном старыми именами называется предметный, вещный мир, мира быта, а не мир понятий или морально-психологических реалий.
Возникает некий игровой момент, в который читатель погружается с удовольствием. Ничего удивительного: игра стала частью нашей реальности; современному, особенно молодому, читателю этого объяснять не надо. Он ждет – нет, он, приученный, требует этого от литературы.
Что наша жизнь? Игра?
Ждешь, жаждешь – получи.
Тума (полукровка, метис; в случае со Степаном Разиным речь идет о смеси турецкой (по линии матери) и русской (по отцу) кровей), тужь (ср. тужить), балясник («галдарея», то бишь галерея), струги (небольшие корабли или тяжелые большие казачьи лодки), каторги («три каторги с товарами»), ясырь (пленники, живой товар), дуван (доля добычи), поиск (в значении набег за ясырем и дуваном), с бусорью (с придурью), нетчик (нигилист, ниспровергатель, отказывающийся выполнять приказы), тулумбас (разновидность литавр), зитины (оливки), первослепо (наречие: незаметно) – и так далее. Кстати, это мое толкование «туманных» по значению слов, я не заглядывал в словарь. Почти не заглядывал (быть объективным все-таки трудно).
«И ушли ногаи под руку хана крымского. И с тех пор мы с ыми в пре и брани» (так «дедко» Ларион «баит» Степану): все понятно, все «на материале русского языка», с использованием его строя и лада, но при этом по правилам игры, заданным повествователем: мы заглядываем «из отсюда» – туда, в середину XVII века.
В произведении много, очень много, невероятно много словесных находок, стилизующих народное мировосприятие, почти в каждой строке по жемчужному зернышку. За примерами ходить далеко не надо. Просто раскрываешь на любой странице и берешь первое, что попадает на глаза: «Отмаливать грех поперечного слова!..»; «Хоть и смердит, да в душу не задувает…»; «– Полдня есть, чтоб поплясать, – сказал дед Ларион. – Апосля – битых считать… – здесь он сильно ткнул посохом своим в землю. – Увёл Господь от поруганья любезных своих казацких деточек!»; «Вдарил колокол – и тут же как покатился с горы, трезвоня о все свои медные бока»; «Хамливо сплюнула ядро пушка».
Среди находок просто россыпи эпитетов, метафор и сравнений, делающих и без того экзотический слог, отражающий экзотический мир, ярким, цветастым – лиро-эпическим, поэмным. Насыщенность яркой, лоскутной фактурой делает «тот», удаленный от нас мир, несколько лубочным, лакированным, что ли. Игрушечным.
«…нудно, тягостно пел рыжебородый поп Куприян, будто собственным кадилом ведомый, и едва за ним поспешающий…» Глава вторая, V
«Он не дышал, будто пугаясь спугнуть с ладони самую буйноцветную бабочку» (речь идет о тайном подарке Степану – об иконке Спаса в Силах – А.А.).
«Слов – как на пригожую вдову потратил…» – подумал Степан.
«Сколько бы ни было смерти, жизни всегда остаётся на семечку больше.
Даже когда выгорело всё – проглянет зелёный стебель посреди липкого пепла».
«…наплыла огромная, как галера на полтораста гребцов, туча – в темнице сразу стемнело. И лишь солома шипела, словно полная змей». (Так, между прочим, запомним этот прием – начинать предложение с многоточия и с маленькой буквы. Синтаксическое обозначение фрагментарности. Этот прием не годится для эпопеи. Годится для лирики – для «отрывочного», пунктирного воспроизведение воспоминаний, ассоциаций.)
«Закат лохмато пенился». Эта краска подмечена как деталь, попавшаяся на глаза во время стычки с ногаями: в результате получился не просто закат, а образ кровавого столкновения. Образом к образу, словно бусинкой к бусинке, ткется текст.
Языковое мастерство «ткача-повествователя» «прет» из каждой фразы, как трели из гуслей. Возникает эффект находки, клада, а лучше сказать – калейдоскопа, игровой трубы, которую можно крутить так и этак и в которой узоры из цветных стекол складываются причудливо, непредсказуемо и беспрестанно.
Необыкновенный эффект языковой пластики особенно сильно ощутим, если взять отрывок текста побольше, где есть и диалоги с подтекстами, и описания, и психологизм. Например, такой отрывок:
«– Лях наплёл, что ты и петь горазд на ляшском, – сказал Минька так, словно продолжал давно ведомый разговор.
Степан повёл плечами: мало ли чего скажет тот лях. Не перестав жевать, коротко глянул на Миньку и потянулся за рушником. Минька двинул рушник ему навстречу.
– И сербскую речь ведаешь, бают о тебе. И турскую, и ногайскую. Когда ж поспел? – спросил Минька, показывая до противности сияющие зубы.
– …говорят – слухаю, – ответил Степан, глотая. – Ежли не ушами слушаешь, а макушкой, – всё само открывается.
– А иной раз и речь ведаешь – а слушаешь и ништо не разумеешь, – ответил Минька и беззвучно засмеялся.
Степан смеха не поддержал, а, зацепив трепещущий желток, потянул в рот, приглядывая сощуренным глазом и за рыбой.
– Столь постиг, а ногаи тебя обхитрили, Стёпка, да? – будто даже выказывая сочувствие, выспрашивал Минька. – Аманаты бесстыжие… А ежли иначе рассудить: кабы не поломали тебя так, могли б и на галеры уже запродать… А то и умучать лютой казнью. А не лекарей к тебе водить… – Минька искал взгляд Степана. – Отчего ж так, догадался?
– Допрежь не открыл никто.
– А вот и открою тебе!.. – Минька взял веточку укропа и сунул, как травину, в зубы.
Сжимал, едва пожёвывая. Затягивал понемногу, как лис рыбку. (...)
Минька коротко вдохнул через нос, и нежданно сменил разговор:
– Ведаешь ли, Стёпка, сколь руси зажилось в Таврии? Боле, чем татар, отвечу. И здесь, в Азаке, – немногим менее. Сечевиков-черкасов – длинная улица. И ваши донские казаки есть тож. И не в рабстве живут. Оттого, что здесь всякого раба спустя шесть лет на волю отпускают, и землицей его одаривают. Ведаешь ведь, не скрой от меня? А слыхал ли, что русских со всех украин – и московских, и посполитных – в Таврии живёт даже и поболе, чем казачков с их казачками на Дону?.. Иной раз, Стёпка, иду к дружочкам и побратимам своим – а руськие всё люди, и так мыслю: худо ли разве, что обжились тут сродники наши? Худо ли, что землицей наделили их, обжениться дали позволенье? И чад растят тут, и чадам тем землица та стала своя: кормит их. Жена-то моя скажу откель. С воронежского посада… Дон жёнку пригнал, я и споймал! – Минька сожмурил улыбку. – И сынков трое народила, – похвастался.
– Как звать? – быстро спросил Степан.
Минька скривился, будто его укололи в ладонь…
Совладав с собой, растянул в улыбке мягкие губы.
– Именами, – ответил.
Янычар Минька обасурманился – принял магометянство. Стал он – потурнак, иначе б не попал в янычары. Новое имя его было иным». (Глава вторая. II)
«Рубленый» синтаксис в сочетании с метафорикой в народном ключе создают впечатление полноты, изобилия, плотности бытия, наполненности событиями (хотя событий на самом деле почти нет). При этом обращает на себя внимание современная психологическая техника, вплетенная в старинные интерьеры, в «округлую» пластику старинной речи и варварские нравы. «…глотая ветер, щурясь слезящимися глазами, ещё не разумом, но сжавшим горло предчувствием Степан навек догадался: нет большей радости, чем имать города и ходить там хозяином».
«И финики кидать в рот, медленно жуя. И купеческие ряды ждут, когда ты договоришь с есаулом, желая тебя угостить, подольститься к тебе.
Хочешь – сам володей городом. Хочешь – царю принеси в дар, как финик». (Глава вторая. Глава вторая. V)
Современному читателю вполне уютно в таком текстовом пространстве, который воспринимается как игра по определенным поэтическим правилам, ни разу не сложным. Но весьма эффектным по результату.
Особо следует отметить, конечно, дар предметной изобразительности – поэтический, в сущности, дар.
«…сидел, не отирая лица и отекающей пепельным цветом бороды.
Пробитые дробью отцовские щёки были теперь в жутких ямках, куда мог поместиться пальчик младенца. На боку виднелся грубо зашитый, кривой, неподсохший сабельный шрам, вывернутый наружу подкопчённым мясом. С незажившего плеча свезена стружкой кожа. Ладони его были разбиты, как камни». (Глава вторая. V)
Пейзаж после битвы за Азов, который так и не взяли османцы:
«…ров, где так и лежали тела тысяч побитых магометян, был до средины засыпан землёй и забросан камнями – и всё равно выглядел глубоким, как русло высохшей реки. По тому рву, как в диковинном птичнике, ходили ожиревшие вороны, бородачи, чайки, переругиваясь на многие голоса. Над ними висели тучи изумрудных мух. Кое-где из-под земли торчали воздетые руки, оскаленные, расклёванные хари». (Глава вторая. V)
Частное проявление виртуозной изобразительности – выразительные портретные характеристики, которые даются в старомодном, «тургеневском» (условно) по технике ключе, но выглядят свежо и вполне современно:
«Азовский паша Зульфикар был высок, крепко собран. Брови вразлёт, острый взгляд – всё выдавало волю. Крупный нос и коротко остриженная борода.
Белоснежный тюрбан украшали алмазы.
Одетый в шитый узорами алый халат, перетянутый пурпурным поясом, он сидел возле каменного столика со сладостями и плодами». Глава вторая. IV
Или вот портреты «осадных атаманов»:
«Низкорослый, неспешный, крепкий, Осип волос имел жёсткий, русый, а бороду – кудрявую, непослушную. Уши его казались прижатыми к голове так близко, словно их прилепили. Глаза были глубоко загнаны в голову. По челу его шли не только поперечные морщины, но и вдольные, делившие лоб на багровеющие шишки. Говорил Осип высоким, скрипучим голосом, как колодезный журавль.
Наум был его на две головы рослей, а бороду стриг коротко. Худощавый, рано поседевший, круглоглазый, говорил он густо, неспешно, будто каждое слово в нём должно было вылупиться из деревянного яйца. Давил из себя голос, как смолу».
А вот портрет русского купца уже и психологически точный:
«Тут же вышел на крыльцо сам купец, раздевшийся до исподней рубахи, поверх которой накинул ферязь, на голову же надел тафью. Борода его была только что расчёсана, и в руке он ещё держал гребешок из слоновой кости. На пальцах были надеты с крупными камнями перстни, которых до се на нём не видели.
– Здесь переночуете, и завтра, помолясь… – сказал, шевеля пальцами, ещё не привыкшими заново к украшеньям.
Степан приметил, что купец имеет привычку обрывать всякую свою мысль, договаривая ровно до того места, после которого всё и так становилось ясным. Даже слова берёг, чтоб не продешевить». (Глава вторая. V)
Ловишь себя на мысли, что цитировать хочется бесконечно.
И еще: очень сложно отдать предпочтение какому-нибудь одному отрывку: настолько они равны по качеству. Видна работа над каждой заметно сияющей фразой, над каждым фрагментом искусно выделанной фразы.
Иногда почти целые разделы сделаны в поэтике лирической прозы (например, Глава вторая, X). Изобилие кратких, скупых на мысли, но щедрых на изобразительность предложений («рубленый» синтаксис), в которые словно вмонтирована пружина ритмики, наделяет текст всеми признаками лирической прозы. Но тут же, в логике игры и эвристического подхода к монтированию текста, лирическая проза вдруг вбирает в себя вовсе не лирическое «варварское» начало, не переставая при этом быть лирической:
«Взятых в полон языков пытали по весне на кругу.
Весна всегда была крикливой.
Грохотала вода; свиристели, щебетали, клоцали, каркали, перекрикивая друг друга, птицы; ржали кони, перелаивались собаки; бякаили овцы; ревела рогатая скотина.
«Целый адат!» – говорили про такое. (...)
В то время жгли огонь прямо здесь же; дым срывался в сторону, закручивался волчком, вдруг успокаивался и стелился в ноги.
Приходило время расспроса и человеческой муки.
Те, кому выпало попасться казакам, надрывались на своём языке, вспоминая то слово, которое избавило бы их от творимого над ними.
Привлечённые суетой, прибредали куры; собаки, напротив, держались поодаль, но чтоб не потерять запах; козы отбегали и блеяли так, будто дразнили пытаемого.
Палачей казаки не имели, но всегда находились умельцы работать с щипцами, с длинным, трёхжильным кнутом, а то и просто с топором, которым бережно кромсали человека, не давая ему омертветь раньше срока.
Иногда мучимый захлёбывался воплем и сознание оставляло его. Тогда пленника отливали из стоявшей здесь же кадки, или ж тёрли щёки и уши ещё лежавшим кое-где снегом. В том виделась своя забота и почти ласка.
Звали из забытья, как дитя, – и радовались, когда пленник открывал глаза.
Возвратив к жизни, продолжали искать в человеке правды, пробуя то здесь, то там. Правда могла таиться в перстах, в ухе, в глазном яблоке. Она почти всегда раскрывалась и выпархивала.
Казаки не услаждались обыденным для них зрелищем пытки, а то и не глядели на неё вовсе, – и лишь внимательно вслушивались в ответы, нетерпеливо перетаптываясь. Никто не скалил зубы и не смеялся.
Атаман выспрашивал, что затевается в городе Азове, или Аздаке; что у ногайских мурз на уме; каким шляхом пойдут ногаи и крымские татаровя на украйны руськие и посполитные литовские; собираются ли иные поганые приступать на казачьи городки.
Выведав всё, человека забывали в грязи.
Добро, если он к тому времени уже захлебнулся собственной мукой – тогда дух его нёсся прочь, стремительный, как ласточка.
Но иной раз калека ещё дышал. Казачьи рабы, ногайцы и татаровя, кидали калечного в повозку и везли к Дону, где, засунув в мешок с камнями, протыкали пикою и, под присмотром младых казачков, топили.
К месту пытки сбегались собаки и казачата. Собаки нюхали и лизали. Казацкие подростки копошились, взвешивая в ладонях отяжелевший кровью песок».
Можно считать этот отрывок поэмой или нет – поэмой о нравах того времени?
Кстати, точно так же – абсолютно жестоко – вела себя «азовская толпа» басурман, когда казнили пленных казаков (свидетелем этой сцены был Степан). Описано, вроде бы, предельно натуралистично, в языческой «оптике», с нездоровой (по нынешним меркам) фантазией. Жутко. Но: «он пугает, а мне не страшно» (фраза, которой Л. Толстой выразил свое отношение к прозе Леонида Андреева). Почему?
А потому что я в игре.
Целые разделы глав тематичны. Из разделов, осколков глав, складывается мозаика. Панорама жизни.
Иногда это молитва-поэма (Глава пятая, X)
Иногда это колоритный монолог московита (Глава пятая, III)
Иногда описание Москвы, которую посещает Степан на пути в Соловки (Глава шестая, III).
Есть раздел о посещении Соловков, с описаниями монастырей и послушников, богословскими беседами, знаками, откровениями и сомнениями. (Глава шестая, IV)
А есть еще описания попоек, взятия и грабежа Азова, утех с Устиньей, бесконечных стычек, поединков, идеологических разборок...
Громадная мозаика. Вроде, экзотика, но одновременно это и фактура быта. Так жили.
И все это так или иначе – нравоописание в разных формах.
Можно ли сказать, что повествование затянуто? Текста много – событий мало, объединяющего сюжета нет.
Затянуто – это когда удивлять нечем, а здесь, повторим, удивление в каждой строке, в каждой фразе, в каждом эпизоде. Здесь не столько событие важно, сколько его описание.
Затянутость по отношению к «Туме» – сомнительная претензия. Сама природа художественности этого текста подразумевает затянутость (то есть отсутствие сюжетно-событийной динамики и логики выстраивания характеров) как необходимое условие мозаического дискурса.
Великолепие языка и рыхлость формы – стороны одной медали.
Итог этого раздела наших заметок мы подведем тезисом, который прокомментируем несколько позже. Текст «Тумы» шит белыми шелковыми нитями литературного мастерства. Иногда чистая литературная техника доминирует во всей своей незамысловатости. Это видно из уже приведенных отрывков текста; будет также хорошо заметно из приведенных ниже.
«Тума» больше литература, чем искусство.
Но зато какая литература!
Великолепная. Захватывающая. Завораживающая.
К этому тезису мы еще вернемся в конце заметок.
Обратим внимание: пока что мы говорили про каверзы художественной технологии, про стиль – не про концепцию и картину мира. Хотя они, несомненно, в «Туме» присутствуют.