Чужой среди своих в параллельной реальности (заметки о романе Захара Прилепина «Тума»). Часть 3
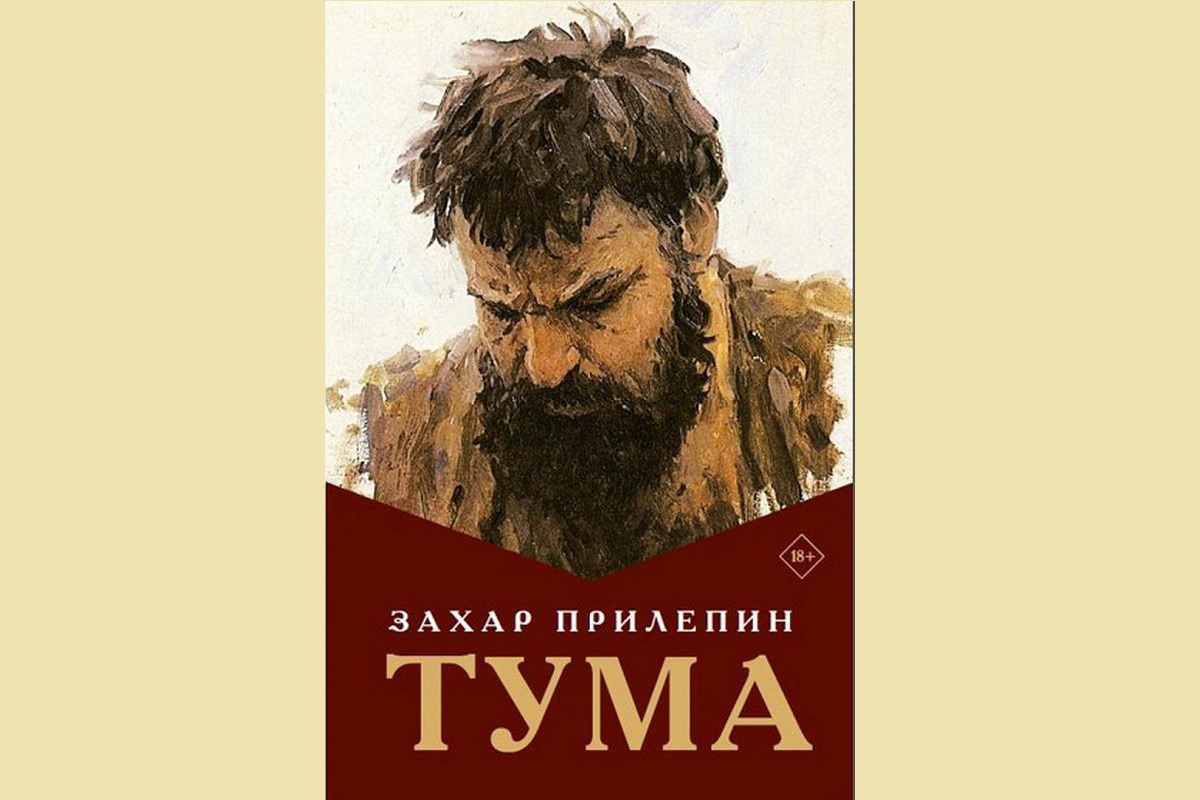
15-18 октября состоится Всероссийская научно-практическая конференция писательская конференция «Большой стиль», которую проводит Союз писателей России. «Большой стиль» – это не просто разговор о литературном произведении, а попытка социокультурного осмысления реальности и проектирование будущего нашей цивилизации. Мы открываем этот разговор статьёй Анатолия Николаевича Андреева о романе Захара Прилепина «Тума».
Подробнее о «Большом стиле» читайте тут
Все книги Захара Прилепина на «Литрес»
Андреев А.Н.
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России
Не всякий опус – эпос,
или «Тума» как ловушка для романного героя
Название «Тума» – это заявка на частную историю, с которой обычно связано романное повествование. Не на эпос, именно на роман. Вот «Тихий Дон» – определенно заявка на эпос или на роман-эпопею.
Искусство романной (романической) прозы – это искусство расставлять ловушки для героя, ловушки, которые формируют картину мира героя (его веру), проверяют ее на прочность. Ловушки меняют качество картины мира.
Таких ловушек в «Туме» почти нет. Есть, пожалуй, одна, но это эпизод (хотя и композиционно растянутый по разным блокам на весь текст), а не принцип организации текста.
Находясь в плену, Степан проходит испытание соблазном сытой и богатой жизни. Цена сделки – проданная душа: надо отречься от своей веры и перейти во вражескую, магометанскую. Некий «мюршид» (персонаж эпизодический, каких много в книге, – целая толпа, состоящая из ярких индивидуумов; один Васька Аляной чего стоит) пытается «взломать» картину мира уже зрелого Степана – по всем правилам проповеднического искусства уговаривает Степана перейти в истинную, мусульманскую веру. Степану предстоит выбрать либо жизнь, либо честь. Выбрать и то, и другое – почти невозможно, нереально. Все строго по канонам «Капитанской дочки».
Но Разину все же удается совершить невозможное. Чудесное спасение (также растянутое по времени и по тексту) сделано такими «мазками».
«Ты оставишь темницу и выйдешь прочь. Дабы оставаться истинным мусульманином, ты будешь выполнять намазы: молиться Аллаху, и я научу тебя, как. Ты будешь поститься в священный месяц Рамадан. Ты будешь при всякой возможности подавать милостыню, оттого, что будешь иметь куда больше, чем нужно тебе одному. Ты сможешь посвятить себя созиданию того дома, что приютил тебя и одарил тебя… (...) – мюршид снова вылепил руками призрачный, из удивительного стекла, шар, и держал его на кончиках пальцев. – … Веяхут кёле калырсын. Кёлелиги ми сечерсин ? (…Либо ты можешь остаться рабом. Ты выбираешь рабство? – тур.)
Пальцы его были готовы отпустить тот шар, чтобы он разбился.
– Нет, – ответил Степан, выдохнув.
Мюршид сомкнул руки и переплёл пальцы, которые продолжали даже в переплетённом состоянии, шевелясь, струиться.
– Бен дахи сени дуйдум, сенин адина севиндим (Я тоже слышу тебя и радуюсь о тебе. – тур.), – сказал он, не выказывая голосом никакой радости. – Незжат тарикине гирмек ичюн ялнызча саг элини калдырып, нейсе ки прангасыз, дедюгими текрар етмен етер: «Ашхаду алля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадаррасулюллах». (Чтобы начать спасительный путь, ты всего лишь должен поднять правую руку, милостиво не стеснённую кандалами, и произнести: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». – тур., араб.)
Мюршид бесстрастно и устало смотрел в глаза Степана.
– Я не могу поднять руки мои. Они переломаны воинами Аллаха, – был ответ».
Сделаем «лирическое» отступление. Бросается в глаза прием, шитый белыми нитками: сначала зачем-то дается транскрипция языка оригинала (турецого, арабского, греческого, сербского, болгарского, татарского и др.), а затем следует перевод на русский. Казалось бы, вполне можно обойтись без транскрипции: она тоже утяжеляет текст, который вязнет в разноречивом языковом гуле.
Но автор как раз и добивается именно этого эффекта: давления языковой стихии; повествователь тотально погружает нас в языковую стихию на всех доступных уровнях: звуковом, ритмическом, лексико-морфологическом, синтаксическом, семантическом, сказовом, «поговорочном», каком там еще. Писатель словно переводит звучание той эпохи на впитывающий в себя все могучий русский. Тот случай, когда звук важнее смысла. Как в лирике.
...Итак, Степан не поднял руки в знак капитуляции. Правда, это была на время отложенная уловка: «– Гляди, если руку вдругорядь не подымешь… Не держать тогда те ни саблю, ни поводья, запомни себе». (Глава вторая. VI)
Так сказал Степану Минька, он же Мехмет, бывший казак, обращенный в басурманскую веру приближенный паши в Азове-городе. Тоже своего рода тума.
Мюршид оказался достойным противником.
«Ты, вижу, наделён и рассудком, и уменьями. Но ни то, ни другое до сих пор не принесло тебе места под солнцем, достойного тебя. Спроси себя сам: отчего? (...)
Мне вовсе не нужно, чтоб ты сделал свой выбор из страха. Из нежеланья месить глину, пока нога твоя больна. Из нежеланья таскать камни, когда нога твоя излечится. Можно обмануть меня, но Аллаха обмануть нельзя. Ты не ишак, чтоб я втянул тебя в истинную жизнь. У тебя и так всё есть, чтобы прийти самому».
Мюршиду нужна была моральная и идейная победа. Вот почему так важно, чтобы «лукавый казак» принял Ислам сам, признав величие «истинной веры». Принял умом и сердцем, а не страхом, что сделало бы его исключительно преданным воином Аллаха.
В результате все же не Степан прогнулся под ситуацию, а ситуация – под Степана, который не отрекся от своих убеждений. Едва не убив приглядывавшего за ним Миньку-Мехмета, он в мгновение ока превратился из потенциально богатого толмача-янычара в жалкого раба. «Пришло время человеческой муки». Его опускали в зловонную жижу зиндана, пытали, водя по краю смерти. Все, как водится, изображено весьма натуралистично, чтобы не только Степана, но и читателей пробрало до костей. Вера сильнее могучего тела и жажды жизни: эта истина оживала в кровавых и жутких образах.
Степан, твердый в вере, выбрал смерть, но не отречение от веры. Пройдя через неописуемые страдания.
Его спас Бог. Или чудо. Иных способов спасенья в подобной ситуации-ловушки не было в принципе. Вот какие вехи были на пути спасения (которое было также растянуто во времени). Вдруг (sic!) «раздался раскат грома столь страшный, будто совсем близко рухнула мечеть». «Степан смотрел прямо в дождь, в чёрное небо, выкликивая своих мечущихся меж струями ангелов». Случился потоп. Потом пред ним чуть ли не сам сатана явился в виде зверя. И волосы на голове приговоренного пленника встали дыбом. И смерть к нему приходила. И гнил он в зиндане-могиле. И змей к нему в яму бросали. И много всего еще.
Он побывал не плену; он побывал в аду.
А потом нежданно-негаданно полуживого Степку обменяли на высокопоставленного азовского кади, который добровольно сдался в плен казакам. Именно для последующего «мена». А кадия того потом казнили свои. За предательство. Кем был тот кадий? Уж не дедом ли Степана, отцом Миримах?
Один «чалматый», казавшийся своим, предал; другой, казавшийся чужим, – спас.
Чудны дела твои, Господи... Где свои, где чужие?
...может, человек человеку – тума?
Судя по всему, Бог, вняв молитве до плена умеренно набожного Степана, решил приберечь его, не дать погибнуть: «Даждь ми, Господи, в нощи не отчаяться, да благоугожду пресвятому имени Твоему, Тобой спасённый навек».
Пройдя круги ада, Степан вернулся домой.
«Степан стал на колени, перекрестился и поцеловал свою землю.
Поднявшись, произнёс:
– Степан, сын Тимофеев, Войска Донского казак вернулся с азовской неволи. Веры Христовой не предал, дел войсковых в полону – не раскрыл, в том слову верен». (Глава седьмая, IV)
Да, после плена «легла на чело Степана иная печать. …жил как в глухоте. Не раздавленный, а в тихом удивлении». Это было возвращение к жизни, а не ревизия ценностей. Хотя, справедливости ради, не только. Степан словно готовил себя к новой жизни – к новой социальной роли. И это было заметно окружающим.
«– Вот моя те молвь, послухай… – кузнец тоже смотрел пред собою, но видя будто не даль, а лишь самую близь. – Казаком ты жить выучился. Вброд перешёл там, где потонули многие. Наречья человечьи тебе даются, словно во рту твоём рождённые. Всё вокруг по тебе, как по росту. Лететь тебе – в самую вышину. Потому сгодится для тебя всё, что другим не даётся. Тебе ж – дастся, только спроси». (Глава седьмая, VII)
Страшная месть ногайцам за плен (вместе с союзными свирепыми калмыками – своевольная месть без ведома и дозволенья на то круга) подтвердила: Степан не стал другим, несмотря на «иную печать».
Иных ловушек экзистенциального плана в произведении как-то и не припомнить. Хотя предпосылки к этому были.
Когда Степан попал в плен в Азов, он, как выяснилось, оказался своим среди чужих, что помогло ему выжить. А у себя в родной станице, среди таких же казаков, как он сам, он оказался чужим среди своих.
«Однако ж ныне прошу казаков-атаманов порешить, чтоб каждый тума, порождённый некрещёной матерью, а тако ж прижившийся от янычарова семени, а тако ж басурманившийся в полоне, – вышел с круга. И ждал до другого круга. И на другом кругу порешим за них. Я ж напомню, что казачье право не допускать на круг тум имеется, и свершается такое не впервой!»
«…ноги привели Степана на татарское кладбище.
Последние сажени до могилы, как одержимый, пробежал, тяжело отмахиваясь руками, будто бег тот был по встречной воде.
Пал на колено и трижды ударил ножом в землю, – вскрипнул поперечный камешек, – произнеся чужим, без дыханья, клёкотом:
– Клятая! Клятая! Клятая!» Глава четвертая, V
Мать Степана – Михримах. Он, «порождённый некрещёной матерью», полукровка, метис – тума. Правда, в конце книги выяснится, что Михримах все же покрестили (при весьма туманных обстоятельствах), и потому стали звать Марией. Но кого это интересует, если миф гласит: тума должен выйти из казачьего круга. Тума там чужой.
Так или иначе данное потенциально трагическое или драматическое обстоятельство не стало поводом для трансформации личности, поэтому не стало причиной превращения повести в роман.
Исполняя обет отца, Степан отправляется на Соловки, на «моленье преподобным чудотворцам Зосиму и Савватию». У него, как мы помним, был и личный мотив – чудесное спасение из плена. Степан был в долгу перед Господом.
Справедливости ради мы должны отметить, что личное пространство даже таких бедовых и удачливых, как Степан, было ограничено. Даже семью невозможно было построить без одобрения казачьего круга, про любовь говорить было и вовсе бессмысленно. Любовь – это так, блажь. Минутная слабость. «Родовые корешки» были, а семьи как личного пространства не было. Жизнь человека была строго регламентирована. Даже на паломничество в Соловки нужно было получить санкцию круга. Таковы были исторические обстоятельства, правила игры, если угодно.
Еще и по этой причине Степан не мог быть романным героем. Он мог быть только воплощением героического (социоцентрического) типажа, коим он и стал. Значит, Захару Прилепину нужен был именно такой типаж, и никакой иной.
Итак, перед нами, скорее, не роман, а этологическая (нравоописательная) повесть – лиро-эпическая по родовой характеристике. Нет романного героя, нет характера, ценностная картина мира которого претерпевает радикальные изменения на глазах изумленного читателя. Есть тип, типаж человека, который находится в своеобразной гармонии с окружающей средой. Потому что не изменения героя важны автору-повествователю, а состояние среды (в том числе языковое состояние).
Вот почему сюжетная основа произведения не романного, а нравоописательного типа – перед нами хроникальный сюжет, свойственный повести. Специально подчеркнем: жанровая маркировка не принижает произведение, не умаляет его статус. У романа больше персоноцентрических возможностей, это так; однако неверно было бы сказать, что роман как жанр лучше повести или рассказа. Жанр – это всего лишь возможности, а как ими пользоваться и с какой целью – это уже другой разговор. «Мертвые души» и «Тарас Бульба» – повести, что никак не делает эти произведения хуже, чем «Идиот», например.
Поскольку сюжет не несет смысловой нагрузки, развитие повести обусловлено не причинно-следственными связями; повестью движет само время. Хронос. Порядок вещей. Нечто неподвластное отдельно взятому человеку. Прошла зима – настало лето; враги сожгли станицу – казаки восстановили станицу.
Этим и определяется чередование блоков (глав, разделов) лиро-эпического дискурса. В формате все той же лирической прозы.
«…всяк вернувшийся черкасский казак помнил свой баз и свою горотьбу.
След в след протаптывали казаки свои прежние тропки.
Спешно ставили на прежнем месте часовенку.
Возводили мостки, тревожа одичавшую лягушачью братию.
Вода убывала – жизнь прибывала.
Кладбищенские мёртвые, пережившие одиночество, ликовали, заслышав голоса живых. Павших негоже оставлять надолго: у них свой страх.
Живые пугаются мёртвых, мёртвые тоскуют без живых».
«Молодая баба, потерявшая дитя в апрельской воде, ходила брюхатая другим». (Глава третья, I)
Как говорится, Бог дал – Бог взял.
Но вскоре к Черкасску вновь пришла неисчислимая орда татар. Побоище перед стенами станицы выписано мало сказать мастерски – эпопейно, детально, зримо, в динамике, ужасающе в своей обыденности и неотвратимости. Схлестнулись две стихии: казачья и басурманская. Казаки отбились, хотя, казалось, у них не было никаких шансов. Надо всем, казалось, царила хорошо знакомая русским логика, вписанная незримыми скрижалями самой жизнью в их культурный код: делай, что должно, и будь, что будет. Хемингуэевский ключ к победе «человек не затем рожден, чтобы терпеть поражения; человека можно убить, но его нельзя победить», прозвучавший, словно открытие, в ХХ веке, во времена Степана Разина с детства был знаком каждому казачонку.
Отбились.
Спустя некоторое время – опять приступ. Татары. Или ногаи. Или те и другие. Все на круги своя. Круговорот жизни.
Но это не значит, что повествователь пишет ни о чем, не сообщает ничего нового. Он повествует про живучесть и выживаемость, цепкость, жизнеустойчивость казачества как стихии.
Чтобы выжить, нужен особый тип. Разинский. Гибкий и вместе несгибаемый. Состоящий из противоположностей. Как тума.
С другой стороны, чтобы выжить, приходилось беспрестанно учиться, усваивать уроки жизни. Жизнь не сводилась к существованию в виде зверя или овоща. Притчевое, следовательно, поэтическое начало пронизывало жизнь как выживание. Притча высекалась из любой, самой обыденной ситуации.
Я хочу сказать, автор отовсюду высекал искры притчи своим искрометным слогом.
«…в дорогу бабка Анюта испекла два хлеба.
Первый был с хрусткой, как у запечённой рыбы или птицы, корочкой, но внутри лёгкий и мягкий, как паутина. Хорошо было отломить с полноготка той корки и таскать от щеки к щеке, веселя язык. А можно было выщипнуть духмяную щербатую мякоть, совсем чуть-чуть – лоскуток, что и в напёрсток поместился бы, спрятать за зубы, и перепрятывать с места на место так долго, словно рот размером с курень, и там есть свои углы и закутки.
Другой же хлеб был тяжёл, как окаменелый глиняный колобок. Если таким колобком ударить о камень, бог весть, кто треснет первым. Отколупнуть его было непросто. На разрез хлеб давался малыми крохами, будто промороженная лосятина. С таким хлебом оголодавший торопиться не смел, довольствовался малым. В такой хлеб лицом было не зарыться – губы раскровавишь, нос набок свернёшь. Хлеб учил почтенью». (Глава шестая, III)
И хлеб учил почтенью, и война, и жестокость, и отец, и мать, и мачеха, и дедко Ларион, и блудная Устинья, и плен, и Соловки....
Умных все учит, а дураку уроки не впрок.
...потом прибыл «государев посланник» Ждан, и казаки услышали:
«Дело наше, как писано в государевой грамоте… воевать Крым! (...) А ещё та земля крымская дивна тем, что в Корсуне великий князь Владимир был в давние времена крещён, и христианскую веру принёс с крымской земли к нам в Русь». (Глава четвертая, XI)
Но казаки своевольно решили сначала взять и разграбить («поимать») Азов, прежде чем воевать Крым... А там уже были готовы и Царьград «имать».
Это ж казаки. Им сам черт не брат.
А потом... «…в те светлые, снежистые январские дни донцы получили весть: Войско Запорожское и украинные, Малой Руси, города, порешив на Раде Переяславской, ушли под руку московскую и стали Русью.
Великая Русь объяла Малую, и Малая стала Великой». (Глава шестая, XI)
Все шло своим чередом, который складывался в историю.
Мифологию казачества Степан впитывает через нехитрые байки «дедка» Лариона, помнившего и знавшего много, понимавшего мало, а верившего свято. Он-то и сформулировал основные идеологемы казачества. В результате Степан Разин, будущий бунтовщик, обрел не ладно скроенную, но крепко сбитую, очень простую картину мира, сложенную из мифов. В книге буквально представлен набор ходульных мифов, скорее, перекочевавших в то время из нашего, нежели наоборот. В игре это вполне допустимо.
«И как забрали Казань и побили поганых, Сусар (атаман Сусар Федоров -А.А.) испросил у государя пожаловать казакам Дон для промысла – государь и пожаловал. До того дня казаки обитались тут как волки, а стали – как казаки… Ибо что пожаловал государь православный – то Христос пожаловал». (Глава четвертая, IX)
Это миф про то, «откуда есть пошло» казачество как явление социальное, говоря научным языком.
«Все самодурью, как и я, покидали дома на рассейской стороне – рязанцы, мещерцы и севрюки, или ж с черкасской стороны. Одни ране, другие позже сошлись тут. На низовом Доне нет ни одного рода, какого я б не помнил с изначала, али ж со второго колена… В старые времена был на Дону такой же дед, как я нонче. Сказывал тот дедка, что он и есть первый казак, и было с ним ещё тринадцать – те, что явились сюда на промысел ране всех…»
Это миф про то, кто такие казаки как этнос, про родословную казачества.
«Казак любую землю перейдёт, и до края её доберётся. Потому что казак верует во Христа. Держись веры нерушимо – никем бит не будешь. Казак и Азов поломал бы заново, и Константинов град поломал бы, и в Иерушалим дошёл бы.
– А чего ж, дед?
Ларион покачал посохом в одну, в другую сторону, тяжко дыша.
– Казаков – их завсегда мало, дитятко, – сказал. – Калмык может собрать войска сорок тысяч. Крымский хан – вдвое боле. А казаки самое превеликое войско на моей памяти сбирали в шесть тысяч, когда шли на Азов-город. На весь божий свет, по всем нашим рекам, может, и есть – сорок тысяч казаков. Их ежли собрать – преград не будет. Да кто ж тогда будет держать Господу Богу Шибирское царство, черкасское запорожье, Яик-реку и руськие окрайны сразу?.. По горсточке везде насыпано – так и держим…» Глава третья, III
Это миф про веру и миссию казаков.
Из разговора с русским купцом Харламом Матвеичем
«– …а Русь не завидует казаку?
– Чему? – не удивившись, спросил купец.
– Жить – ярмо тащить, когда можно – по-казацки, – сказал Степан, вдруг почувствовав себя тем, каким и был, – младым.
Купец, не повернув головы, продолжал дышать в нос, как не слыша.
– У всякого своё ярмо, – сказал негромко. – Господь без ярма никого…
– А какое у казака ярмо? – упрямо спросил Степан.
– Ярмо казака – башка… – сказал купец, громко высморкался, отёр руку о ляжку и полез вниз с полка».
Это миф про особый статус «вольных» казаков в русском крепостном «мужицком» мире.
Диспут Степана с ляхом Гжегошем в плену – на польском само собой, хотя я цитирую без транскрипции (Глава четвертая, II)
«– Русские бояре у нас в Речи Посполитой переходят в католическую веру – твердо отвечал лях. – Их не принуждают. Их не держат в темницах, как тебя. Как меня. Они сами, своей волей.
– Бляди потому, – отвечал Степан, не опасаясь разозлить пана. – Христову веру истинну руський люд бережёт да славное казачество. У них кроме Бога нет никого… А русский боярин – боярство себе покупает новое. А Бога несёт на торг. Он как мыслит: вроде тот же Исус, не погрешу ничем… (...)
- Русский шляхтич расположен видеть землю Посполитную своей землёй! Отчего, спроси меня? Оттого, отвечу, что нет в свете другой земли, подобной нашему отечеству, правами и свободами! Везде неволя: и у османов, и у москалей, и куда ни взгляни. А вольности – у нас…
Потому как осознал он (русский шляхтич – А.А.): звериное говоренье ваше не может быть языком литургии! Греки обманули русских тем, что не дали им своего языка, и оставили тот, на котором вы нелепо изъясняетесь! Но, бормоча на вашем языке, до истинного разуменья не дойдёшь никогда! На вашем языке нет наук! На вашем языке нет правил! Грамматика вам не ведома! И само слово сие вам не ведомо! У русских и не слыхать о тех, кто ведает старый греческий язык! Христианин из страны индийской и поляк могут говорить друг с другом о Боге! А с вами – никто! Немотство владеет вами! С вами никто не поговорит! Кроме ваших же попов… Но ваши попы – такие же звери! Ответить, отчего я так строг к вашим попам? Ваши попы – женятся! Ночами они мнут баб!.. (...) Чтоб не выглядеть грубо, скажу иначе: попы ваши беспокоятся о мирском! А когда поп беспокоится о мирском, он забывает о вере! Русь омужичилась снизу доверху! Вот потому, казаче, истинный русский шляхтич расположен видеть землю Посполитную своей землёй!»
Это западный миф о «варварстве» русских, в том числе казаков, ибо для ляхов и прочих шведов все едино: казак – значит, русский.
И это миф о том, как мы воспринимаем западный миф.
«Степан готов был сгубить всякого, кого встретил поперёк своего пути.
Он давно избыл Божий страх, снедающий при татьбе.
Однако ж прежде, чем губить, выучился он со всяким, кто достоин того, быть в миру, и лад не рушить попусту, но, напротив, крепить. И речь иноязыкая, известная ему, премного пособляла ему в том. За те познания Степана сына Тимофеева Разина на кругу Всевеликого Войска Донского не раз величали.
Свершенья его были явны, а слова – и ходки, и прытки, и крепки, и лепки, и ёмки – крепче заморского булату, и в переговоре, и в договоре.
…но сладости латыни не знал он».
Это миф про казачье представление о гармонии и доблести.
Про жизненный уклад казаков, собственно, все произведение.
Все вместе – тщательно собранный и отреставрированный Прилепиным миф о казачестве как особом социокультурном пласте русской жизни.
...интересно, «ярмо казака – башка»: это тоже миф?
В том, что «Тума» повесть, а не роман, заложена глубокая художественная правда: Степан Разин никак не тянет на героя романа. Думаю, у Прилепина оснований назвать «Туму» поэмой было не меньше, чем у Гоголя свои бессмертные «Мертвые души» (которые несравненно выше по своим художественным достоинствам, нежели «Тарас Бульба», где воспеты души героические, и в этом смысле живые, отзывающиеся на живые смыслы бытия; художественная логика – она такая, замысловатая, затейливая). Души живые, сложные, ищущие, противоречивые – это материал для романного формата; души «мертвые» (нечуткие в духовному, нравственно-психологическому началу человека) или статично героические – это материал для этологической повести. Тот же Тарас Бульба, между прочим, просто враждебен текучей, способной к изменениям природе человека. Он способен существовать в системе координат «или – или»; в системе координат «и – и» (и то, и другое), где противоречия совмещаются, а не стремятся поглотить друг друга, Бульба (красноречивое прозвище-фамилия: картошка, овощ, неодушевленное растение) становится именно «мертвой душой». Он и младшего сына Андрия убивает за то, что тот сложнее, чем это необходимо для того, чтобы быть «просто казаком». Все, что мешает первобытной простоте казака – образование («латынь»), нежные чувства – то безжалостно выкорчевывается «казачьими университетами», казачьим воспитанием и образованием.
Но Андрий Тарасович годится на роль трагического романного героя, а героический Тарас Бульба – нет.
С другой стороны, Тарас – «матерый человечище», цельная глыба, которая несокрушима в своей цельности. Во времена лихие (а когда у нас бывали иные времена?) таким нет цены. С Андрием в разведку не пойдешь, на такого трудно положиться: в нем двойное, скользкое, предательское, текучее, нетвердое начало слишком очевидно.
А со стороны третьей: зачем социуму нужны такие, как Тарас?
Чтобы появились такие, как Андрий. В том, что Тарас породил Андрия, также есть простая, сермяжная, диалектическая правда жизни. Развитие предполагает появление «романной» фигуры Андрия. Да, утрачивается цельность натуры, но зато появляются так необходимая человеку тонкость культуры, излишнее для Бульбы гамлетианство, онегинская отзывчивость на противоречивость мира.
Примерно так выглядит жанровая раскладка большой прозы на уровне схемы.
«Тума» гибрид: в нем (в ней) родовые черты этологической повести скрещиваются с чертами романа. Возникают основания для маргинальной жанровой характеристики: тума.
«Тума» – это тума.
Степан Разин по типажу тяготеет к Тарасу Бульбе. Но здесь кроется гигантский нюанс. Цельность Бульбы однозначно на страже казачьего мира, русского мира, нашей цивилизации, если на то пошло. Времена были такие, героические. Не до жиру, не до нежностей.
А чему служит цельность и неубиваемая русскость Разина?
С этим следует разобраться. Выбор героя для «Тумы» не выглядит убедительным с позиций сегодняшнего понимания наших ценностей. Выглядит не то чтобы сомнительным, «скользким в своей вредности», но именно не убедительным по меркам культуры.
Я вовсе не «подстилаю соломку» – не готовлю читателя к тому, что собираюсь переходить к слабым сторонам сильного романа (с одной стороны, с другой стороны...); я попытаюсь обнаружить не слабую, а оборотную сторону романа. Я буду повышать ставки в игре, которую предложил сам роман. Буду включать гамбургский счет. Апеллировать к индексу величия русской (да и всякой иной) литературы.
Что имеется в виду?