Чужой среди своих в параллельной реальности (заметки о романе Захара Прилепина «Тума»). Часть 4
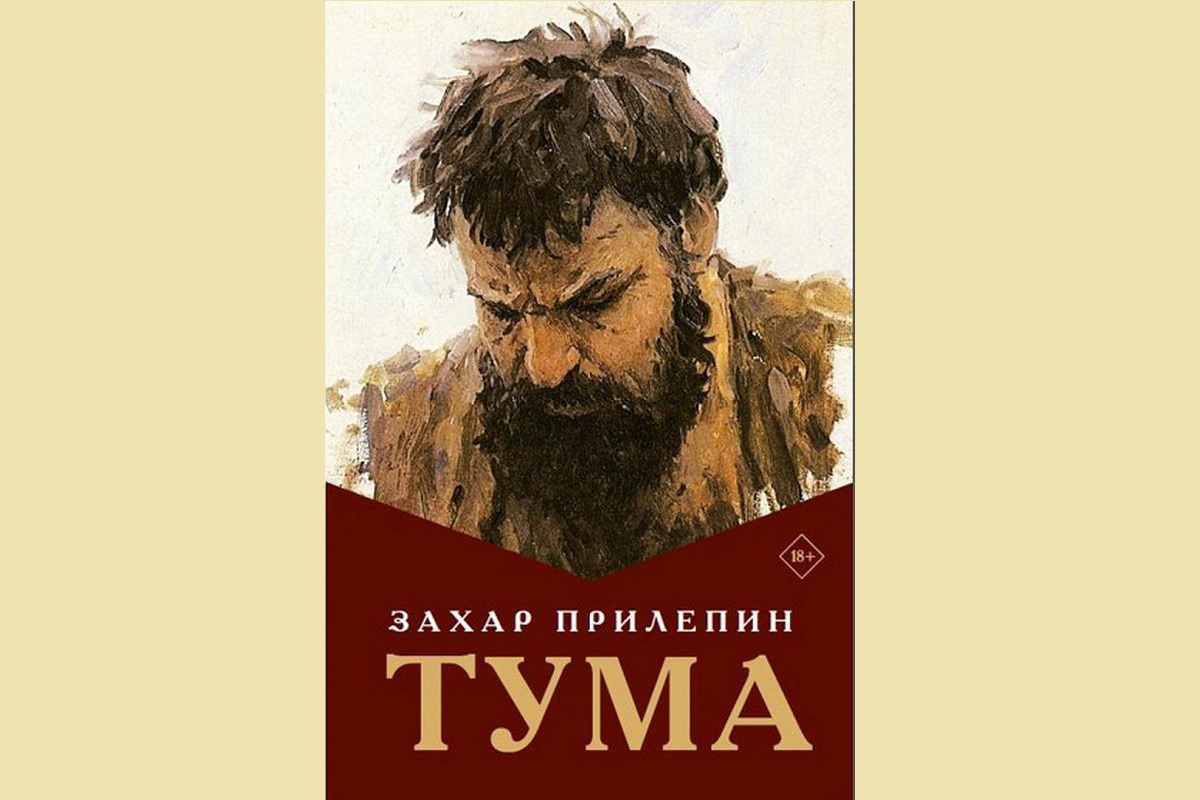
15-18 октября состоится Всероссийская научно-практическая конференция писательская конференция «Большой стиль», которую проводит Союз писателей России. «Большой стиль» – это не просто разговор о литературном произведении, а попытка социокультурного осмысления реальности и проектирование будущего нашей цивилизации. Мы открываем этот разговор статьёй Анатолия Николаевича Андреева о романе Захара Прилепина «Тума».
Подробнее о «Большом стиле» читайте тут
Все книги Захара Прилепина на «Литрес»
Андреев А.Н.
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России
А зачем тебе воля, Стенька?
Можно сказать, ткань романа пронизана скрытыми цитатами и аллюзиями, отсылающими к нашему времени, в тексте много явных и неявных параллелей с понятными всем современными реалиями: на них невольно отзываешься, и это делает текст, во-первых, «душевно и ментально близким», а во-вторых, модель прошлого воспринимается как метафора современности – как реальность, параллельная нашей. Воспринимается, опять же, как игровой прием.
И уж если говорить о произведениях, оказавших влияние на «Туму» в аспекте художественной технологии, я бы в числе первых назвал не «Петра I» А.Н. Толстого и не «Я пришел дать вам волю» В.М. Шукшина, а фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона. В «Туме», как и в «Аватаре», создана именно параллельная нашей реальность (совершенно не важно, на будущее она спроецирована или на прошлое), которая перекликается с событиями, фактами или алгоритмами существования человека. Текст становится игрой, отсылающей читателя к первоисточнику.
«Найдите десять отличий»: невольно втягиваешься в эту игру.
Основная призма, сквозь которую мы воспринимаем события «Тумы», – вечно двусмысленная и пограничная ситуация «хохлачи-сечевики» – казаки-дончаки (русские, по большому счету).
«– А раздора нашего для, говорю ж! Чего ты не расслышишь меня никак? – Корнила уже и не слишком сдерживал голоса своего. – Хохлач – брат наш во всяком походе и всякой битве с бусурманами! Однако ж, Тимофей, знай. Дончаку всегда легче – он на своего царя хоть через раз, да оглядывается. А сечевик – под чужим королём ходит, он ляцкой проповедью травлен, и оттого веры у него нет никому. Они зарежут русского посла, чтоб проведать, что́ московский царь пишет турскому султану. Потом турского посла прирежут, чтоб разгадать, что́ у султана на уме. Следом зашлют гонцов в обе стороны – с присягами».
«…через час захмелевший Раздайбеда, то ли шуткуя, то ли всерьёз расспрашивал Корнилу:
– Раз ты ходил со станицей до Москвы, батько Корнила, нет ли у тя московских бояр в дружках, чтоб умолили государя принять под свою руку малороссийскую Сечь? С Киевым в придачу?
– Вы перейдёте в подданство, а як чого не по-вашему, побежите в другу сторону, к униатам своим, переговаривать наново, – насмешничал Корнила, нарочито путая донской выговор с малоруським.
– А то вы сами не бегаете, – отвечал добродушно Раздайбеда.
– Мы не бегаем, а стоим, где стояли, – отвечал Корнила, медленно поднимая руку, сжатую в кулак, – и, вдруг сильно стукнул себя по груди, там, где, невидимый, висел крест. – Казак православный токмо царю православному и может служить, какой бы вольный ни был, ибо за казацкой волей глядит всеблагой Христос, а у Христа православный царь на земле один самовластный – руський. Других нетути».
В разговоре с ляхом Гжегошем Степан, будучи в плену, выразил это так:
«Донцы – своему царю казаки! А сечевики – чужому королю казаки! Ещё б они не восставали противу вас. Чужое не подошьёшь к своему».
«Раздайбеда без подвоха переспрашивал:
– А верно ль, что не ваши верховые казаки учудили ту подлость («обидели русских купцов» – А.А.), батька Корнила? Откель можно ведать про то, ежели всех, как сказываешь, побили? Как мы будем бить православного человека, когда мы – ветвь одного корення?
– Корення… – передразнил Корнила, и перевёл глаза на Тимофея с тем видом, что веры средь хохлачей нет никому». (Глава вторая, IX)
И как резюме звучит суждение («дедко» Ларион внушает любопытному Степану):
«– Наши сечевики – православные браты, пребывающие в униатском да шляхетском плену литвинском».
Надо понимать: с червоточинкой – но браты. А нужны ли такие браты?
Вот и думайте «думку», современные читатели.
Кстати, формула «православные, пребывающие в униатском плену», – это ведь формула тумы. Свой среди чужих, чужой среди своих.
...все мы по-своему тумы, если разобраться.
Или вот ситуация, когда Минька из (с)ложносочиненных идейно-патриотических соображений склоняет Степана к предательству: дескать, «мы с тобой», казаки, временно надевшие шкуру басурман, а не «татарове», не лютые враги, будем владеть Русью. Свои среди чужих ведь сильно лучше для отчизны, чем просто чужие...
«– Может, с нас всё и зачинается, Стёпка? – спросил он (Минька – А.А.), глядя благостно. – Ведь одно, когда татарове приходили на Русь, а совсем иное – когда мы с тобой придём…»
Еще совсем недавно многие, заслушавшиеся «сладостью латыни» Запада, «временно, временно, конечно» надевшие маску, чтобы не сказать «шкуру», либералов, рассуждали примерно так же, как Минька. Да и сейчас миньковская психология, психология тумы (и нашим, и вашим, хотя думаем только о себе), живет и процветает, к сожалению.
«Не хуже меня ведаешь про то: для московитов всякий пленённый – порченый человек» (Минька – Степке). Понятно, как работает эта отсылочка к «варварам» русским, победившим в лютой Великой Отечественной войне?
Нет «прав и свобод» у московитов; есть только обязанность быть быдлом, расходным материалом.
Или вот намек из параллельной реальности – добровольная сдача «батюшкой православным государем нашим… с ближние бояре» Азова-города, взятого с таким трудом, героизмом и невероятными жертвами казаками.
Читая роман, вольно или невольно держишь в уме: Евгений Николаевич (я о Прилепине) – русский воин, побывавший как раз там, где «хохлачи», окончательно «затравленные ляцкой проповедью-идеологией», хитромудро «утратившие память» о своих «кореннях», насмерть схлестнулись с «дончаками». Две стихии сошлись в диком поле. Все как тогда. Жестокость смертельной схватки, так натуралистично описанная в романе, не из пальца высосана. Это тоже «цитата».
Зачем нужны цитаты и аллюзии, зачем нужно запараллеливание реальностей прошлого и настоящего?
Затем, чтобы выявить архетипы, лежащие в основе жизнеуклада русских (московитов и казаков: тень тумы как свойства реальности мерещится и здесь). Выявить то, что не меняется, что делает нас такими, какие мы есть.
Концентрацией архетипов, надо полагать, является образ «тумы» – образ Стеньки Разина, вобравшего, надо полагать лучшие черты русских казаков, – те черты, которые позволяют нам выживать и сегодня.
Что это за черты? Что это за архетипы?
Едва ли не главный миф о русских, неизвестно кем сочиненный (уж не западниками ли, поклонниками «латыни»? с них, иезуитов, станется), но почему-то поддерживаемый самим русскими, строится на ложном и зловредном посыле, будто они (то есть мы, русские) безудержно предрасположены к воле, которую они почитают как «свободу», склонны к бескрайнему и безграничному, что они не ведают меры ни в чем. Именно это, якобы, определяет широту души русских, явно затмевающую, увы, широту их ума («ярмо казака – башка»?).
Если бы все было именно так, если бы миф о русских был правдой о русских, мы бы давно сгинули, «погибоша аки обре».
Но все не так, все ровно наоборот. С волей русских к воле надо бы разобраться.
Давайте рассмотрим Стеньку Разина не как ключевой персонаж «Тумы», а как исторический и социокультурный миф – как прототип нашего тумы. Эссеистические заметки позволяют нам пошире взглянуть на роман и в таком разрезе.
Миф о Разине как зачинателе русского бунта – это частное проявление мифа о культе воле у русского народа, вечно почему-то забакаленного и обнесенного. Так любим волю, что судьба держит нас, словно чудовище, в цепях и «крепости» (ох, уж это крепостное право). Дай волю тем, кто собирается придти к вам, чтобы дать вам волю, и вы получите монстра: получите того, кто «диктатуру натуры» (порывы души, культ бессознательного) ставит выше «диктатуры культуры» (законов нравственных и социальных).
Все эти «цыганы» (Алеко), Турки (уличное прозвище Мелеховых – ау, «Тихий Дон»), Тумы – все эти особи с примесью горячих южных «басурманских» кровей, все эти поэтизации бесконтрольных порывов к воле, что является, якобы, показателем широты души, – все это на самом деле является показателем дефицита дисциплины ума, дефицита регуляции от ума, показателем неумения выстраивать отношения с миром как познавательные (культурные), подменяя их «натуральными», приспособительными. Показателем не столько жажды воли, сколько дури, проще говоря.
Это в принципе не русская история; это, может быть, история про слабость русских, про уязвимые точки русской «безоглядной» натуры, но это не история про силу русских. Поэтизация и романтизация своих слабостей – это признак именно слабости, и ничего более. В русском культурном коде принципиально иное отношение к порывам души, суррогате культа свободы.
(см. мою книгу «Идеология как феномен культуры и цивилизационный ресурс России»)
Пушкин знал, о чем писал. Вначале было так: «На свете счастья нет – но есть покой и воля!» А в конце: «Я думал: вольность и покой – замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан!»
Вспомним эпизод из повести «Капитанская дочка», где Пугачев рассказывает «затейливую» сказку об орле и вороне русскому офицеру прапорщику Гриневу (кстати, вполне себе «туме» по своей картине мира). Смысл сказки в том, что глоток вольной жизни стоит самой жизни. «Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!». На что Гринев отвечает: «Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину».
Знаменитая формула «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный»: это сказано именно про «волю». Бунт – это форма проявления стремления к воле. И казачество в «Капитанской дочке» (но не во всем творчестве Пушкина), носители вольного начала, бунтовщики, мятежники, изображены Пушкиным как деструктивная сила.
В полной мере это относится и к Разину, и к разинщине.
По поводу пушкинской цитаты «Разин есть единственное поэтическое лицо русской истории», с которой начинаются все лукавые думки о Разине. Все знают: цитаты не следует вырывать из контекста, иначе смысл цитаты можно поменять на противоположный. Все знают, но не все делают.
Осенью 1824 г., в ссылке в Михайловском, Пушкин записывал со слов своей няни Арины Родионовны народные сказки и песни. Среди них были песни о сыне Стеньки Разина и о самом Стеньке Разине («Как на утренней заре, вдоль по Каме по реке…»). Тогда же Александр Сергеевич попросил брата прислать ему из Петербурга «историческое, сухое известие о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории».
Три «Песни о Стеньке Разине» являются оригинальными произведениями Пушкина. Он хотел напечатать свои «Песни о Стеньке Разине» и представил их Николаю I, который, как известно, в 1826 г. взялся быть цензором поэта. Однако Пушкин получил отказ со следующей мотивировкой: «Песни о Стеньке Разине, при всем поэтическом своем достоинстве, по содержанию своему не приличны к напечатанию. Сверх того церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».
Вот знаменитая пушкинская песня о «поэтическом лице».
Что не конский топ, не людская молвь,
Не труба трубача с поля слышится,
А погодушка свищет, гудит,
Свищет, гудит, заливается.
Зазывает меня, Стеньку Разина,
Погулять по морю, по синему:
«Молодец удалой, ты разбойник лихой,
Ты разбойник лихой, ты разгульный буян,
Ты садись на ладьи свои скорые,
Распусти паруса полотняные,
Побеги по морю по синему.
Пригоню тебе три кораблика:
На первом корабле красно золото,
На втором корабле чисто серебро,
На третьем корабле душа-девица».
Что поэтизирует здесь Пушкин?
Стеньку Разина как продолжение и воплощение неукротимой стихии – стихии неразумной и безрассудной. И беспощадной, само собой.
Одновременно с песнями о Стеньке Разине Пушкин заканчивает поэму «Цыганы», пишет «К морю» («Прощай, свободная стихия»); осенью 1824 года вообще заканчивается романтический период его творчества, когда за утверждением свободы, на первый взгляд, скрывалось если не воспевание, то оправдание своеволия (анархизма, по сути). Пушкин торил дорогу к свободе, к культу которой пришел в более поздних вещах (в «Евгении Онегине», «Капитанской дочке»).
В отношении к разинщине, по большому счету, мы слышим отголоски «байронизма», перенесенные на почву русской истории. Понимание свободы как безграничной воли, что было в пух и прах развенчано в Капитанской дочке. Строго говоря, ничего хорошего разинщина не принесла ни казакам, ни крестьянам, ни поволжским народам, ни даже государству российскому. «Самое поэтическое лицо русской истории» на поверку оказалось бунтовщиком, мятежником, «разбойником» и «разгульным буяном».
Какой была цель восстания, крестьянской войны? А никакой, по большому счету. «Бить» бояр, дворян. Бунт ради бунта, бессмысленного и беспощадного. Каждый, перешедший на сторону Разина, спешил побывать «в шкуре свободного человека». В определенном смысле такой «аттракцион невиданной свободы» обладает известной психологической самоценностью и привлекательностью: зло, рядящееся в шкуру бесшабашности, бывает обаятельным.
Но это песня не про свободу; это бунт рабского сознания.
Прилепин все это, конечно, знает не хуже меня. И все-таки – Разин?
Можно сказать, что у Прилепина Разин не такой, каким был в реальности, он такой да не такой, он другой, хороший. Можно. Но тут дело в другом.
Можно в качестве героя избрать Христа, а можно – Иуду. И уже ясно, о чем пойдет речь. Так устроен язык культуры, связанный с ее смыслами.
Разин – это символический ориентир, он вобрал всю смысловую нагрузку мифа. Да, в «Туме» нет пока того Разина, о котором мы говорим, и неизвестно, будет ли. Мы же анализируем не гипотетическую трилогию, а вполне законченный текст. Да, в этом тексте нет Разина-бунтовщика. Поэтому наши рассуждения надо воспринимать не как упрек Прилепину, а как предостережение о риске «поставить не на тот символ», что ли.
Зачем этот символ и типаж нужен нам сегодня? Чтобы что, как говорится?
Тип Разина как запрос на перемены?
Назовите хоть один период русской или любой другой истории, когда перемены были бы не актуальны. У нас всегда в экономической и социо-культурной реальности перегрев, необходимость в преобразованиях, перестройках и обновлениях. Всегда запрос на перемены (что, между прочим, нормально). Только осуществлять перемены следует методами, ровно противоположными разинщине.
Феномен разинщины и самого предводителя, бросающего в Волгу княжну из самодурства (вольному, понимаешь, воля), не вызывает, честно говоря, сочувствия.
Пугачев (тень или клон Разина) у Пушкина показан намного тоньше, он не только азартный бунтарь, но и человек чести, которому важна моральная победа над противником; при этом сам бунт не вызывает ничего, кроме отвращения и сожаления
(см. мою статью Прапорщик Гринев VS комбат, или В литературе всегда побеждает жертва)
Сегодня культурный и, не побоюсь этого слова, цивилизационный запрос на другое – на личность, на мыслящего героя, сумевшего стать счастливым. Настоящий культ свободы и познавательного отношения начинается с Евгения Онегина. Тума – и Онегин: почувствуйте разницу.
Нужно ли такое полотно, такой, с позволения сказать, дискурс «Большому стилю»? Этого ли ждет «Большой стиль»?
«Большому стилю», с моей точки зрения, необходимо то, что талантливо, неожиданно, попросту интересно. Захар Прилепин никого ни о чем не спрашивал; пришел, предъявил и удивил: замыслом и исполнением замысла.
Стало ясно: возможности русского слова не исчерпываются достижениями корифеев стиля Лескова, Набокова, Саши Соколова, Андрея Платонова, целой армии их в разной степени даровитых подражателей, которые стиль ставили выше содержания, «отрывали» одно от другого. Стилевой ресурс русского языка в качестве самоценного повернулся новой, несколько неожиданной гранью. Браво.
Но – все же, все же, все же...
Русская литература создала такой культурный запас прочности, открыла такие залежи того, что предстоит освоить, что, хотим мы того или нет, на нас давит груз определенных ожиданий – груз культурного запроса. Развиваться в русской литературной традиции означает не просто удивлять любой ценой и по любому поводу; развиваться означает удивлять в рамках культурного запроса (вызова).
Думаю, у нас есть возможность заглянуть в литературное будущее; прямо говоря – предсказать пики развития русской литературы как мирового лидера. Достижения русской (да и мировой) литературы уже можно представить как некую литературную «таблицу Менделеева» – как таблицу, где обозначены пиковые достижения и, главное, совокупность факторов, обеспечивших саму возможность достижений. Чтобы не углубляться в эту смутную и дискуссионную материю, сформулируем прогноз, основанный на культурном запросе.
Чего не хватает русскому миру, нашему обществу и, соответственно, нашей литературе?
Образа «русского человека в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет» (Гоголь о Пушкине). В переводе на внятный русский и в нашей версии это означает: нам не хватает Евгения Онегина в современном варианте. Необходим роман о неограниченных возможностях личности, ограниченных современным уровнем развития человека. Двести лет почти прошло, и нам необходим персоноцентрический роман, мужской роман о становлении личности, которая способна стать счастливой вопреки всем обстоятельствам.
И такой роман появится, он не может не появиться.
А почему у нас нет шедевров масштаба «Евгения Онегина» или «Героя Нашего Времени»? Нет даже внятного движения в эту сторону?
Потому что масштаб Пушкина (по разным причинам) не осмыслен нами (нами, не кем-то там на Западе: от них этого ждать не стоит, потому что они на это не способны) должным образом, не принят нами как культурный завет и вызов, как цивилизационный ориентир. «Евгений Онегин», возможно, лучшее произведение всех времен и народов, парадоксальным образом не стал для нашей литературы точкой притяжения, реперной точкой. Ни тени Онегина в литературе не наблюдается. Как будто вовсе не было Пушкина и его великого пророческого романа в стихах. Как будто нас дьявольским образом увели в другую сторону. Как будто нас дезориентировали. «Нынче все умы в тумане»...
Почему это никого не волнует? Почему главное не становится главным?
Да, я верю: наш культурный гумус набирает силу. Придет время – и гений явится, куда он денется («закон таблицы», если это закон, не отменит никто). Но я также верю и в то, что формирование гумуса – процесс относительно управляемый и контролируемый. Это глобальный процесс, где усилия каждого невероятно важны.
Между прочим, в осмыслении наших ключевых феноменов литературы и культуры видится одна из задач «Большого стиля» как явления эпохального, если оно состоится, конечно.
«– Татар тилинде энь эйи атлар аххында лаф этмеси, эфенди (По-татарски лучше всего говорить о лошадях, эфенди. – тат.), – сказал Степан.
– Ке ста Эллинка я тон Тэо? (А по-гречески – о Боге? – греч.) – спросил грек».
«– О чём глаголит язык Руси?
– На моём языке лучше молчать, – так же медля, разделяя каждое сказанное слово, отвечал Степан».
Что это означает? Здорово, но непонятно...
Язык дан, чтобы красноречиво молчать... Можно ли сей парадокс истолковать так: кричаще яркий стиль «Тумы» стал языком молчания (в культурном смысле)?
Если «мысль изреченная есть ложь», то Прилепин, по большому счету, не лгал. Ну, почти не лгал. Нечего сказать – говори красиво: это в известной степени можно отнести ко всей поэтической культуре; это можно отнести и к «поэме» «Тума».
Значит ли это: говоря о Разине, лучше молчать о Разине?..
Получится ли?