Чужой среди своих в параллельной реальности (заметки о романе Захара Прилепина «Тума»). Часть 5
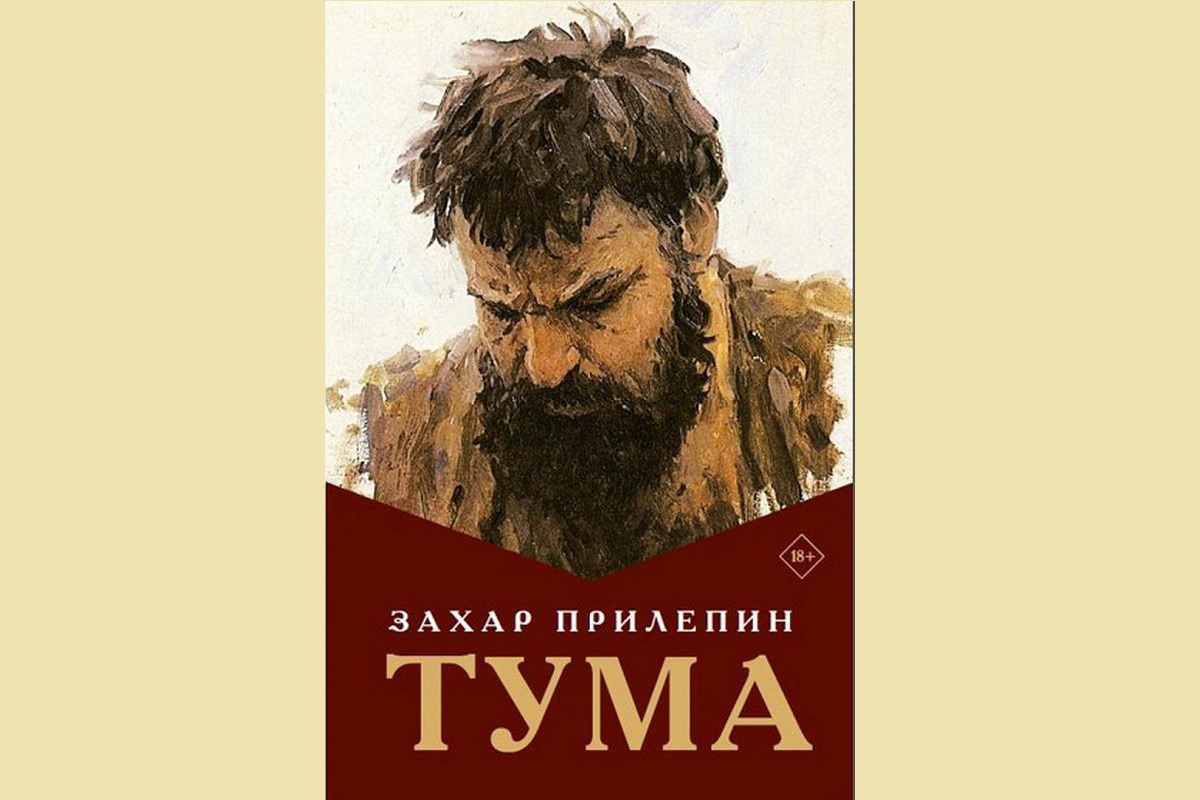
15-18 октября состоится Всероссийская научно-практическая конференция писательская конференция «Большой стиль», которую проводит Союз писателей России. «Большой стиль» – это не просто разговор о литературном произведении, а попытка социокультурного осмысления реальности и проектирование будущего нашей цивилизации. Мы открываем этот разговор статьёй Анатолия Николаевича Андреева о романе Захара Прилепина «Тума».
Подробнее о «Большом стиле» читайте тут
Все книги Захара Прилепина на «Литрес»
Андреев А.Н.
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России
Но все же, все же, все же...
Это «все же», горькое послевкусие одномерной логики, – тоже палка о двух концах.
Точку в долгом разговоре о «Туме», который только начинается, несомненно, следует ставить не на «культурных претензиях», если так можно выразиться. Во-первых, далеко не всякое произведение можно рассматривать в контексте нашего культурного кода, нашего цивилизационного идеала. «Туму» – можно и нужно, что само по себе делает эту повесть выдающейся.
Во-вторых. Как известно, не стреляйте в пианиста: он играет, как умеет. Нельзя требовать от писателя больше того, что он может (или хочет) дать.
Какова сверхзадача, какова миссия «Тумы» как она видится здесь и сейчас? Зачем она была написана? Как истолковать главный ее смысловой посыл?
С моей точки зрения, смысловой посыл повести, которую хочется считать романом-эпопеей, можно сформулировать следующим образом: поэтизация казачества как ключевой составляющей ментального комплекса «русскости». Прилепин слепил «лепый» образ, воплощающий наш идеал «коллективного богатырства». Это сказ не про наш культурный код; это про нашу матрицу.
«Казаки были – как ледоход: неостановимы, угловаты, порывисты»; «Казаками править – как пожаром в поле, – пояснил Павел. – То, князь, не крепостные людишки. На казаков никакой крепости нету».
- Какие мы? – вопрошаем самих себя.
- А вот такие! – отвечает «Тума»-зеркало.
- Что нам «Тума»?
- Наш ответ миру. И себе.
Как версию, поэтизирующую наш разгульный дух, «Туму» принимаешь «на ура» и с придыханием, да еще присвистнуть хочется вдогонку. Дескать, эге-гей, прорвемся! Но ограничиться только этой версией, прочитать «Туму» как исключительно игровой дискурс было бы явным упрощением. «Тума» – это игра в игру: кажется, что это игра, но на самом деле отнюдь не игра, ибо задача предложенной «игры» вовсе не развлечь и позабавить, а уловить неуловимое, материализовать не поддающееся материализации, поэтизировать то, что сопротивляется поэтизации.
«Тума» не только в стилевом, но и в смысловом отношении оказывается с двойным дном. Оказывается не такой простой, как можно было подумать.
Но не настолько сложной, как хотелось бы. Не персоноцентрической. Как реперную точку в нашем культурном космосе принять «Туму» гораздо сложнее.
Вот эта маргинальная, пограничная позиция «Тумы», возможно, сыграет роль так необходимого нам культурного триггера. «Тума» будоражит, тормошит, заставляет думать, выводит из спящего состояния – хотя при этом «молчит» в концептуальном отношении. Говорит – молча, молча – говорит. «Тума», возможно, напророчила себе судьбу «тумы», найдя уникальный сплав лиро-эпики. Не убоявшись смешения родов литературы, жанров, мифов. Два в одном.
Чего ж вам больше?
А дальше сами – ножками, ручками, головой, этим ярмом культуры. Словами, которыми «глаголит язык Руси».
Главное – не молчать.
Если понятию тума придать расширенное (и тем самым произвольное, конечно) толкование, если под тумой понимать единство противоречий, то Евразию, например, тоже можно воспринимать как туму. И Россия – тоже тума. И наша Земля (синтез глобального Севера и глобального Юга) не планета вовсе, а тума. Но самая главная тума, та, что всему голова, – это личность: единство духовного и телесного, при котором кажется, что сильнее всего на свете голос крови и «родовые корешки», а на самом деле всего сильнее голос разума и совести. Если тума-полукровка от мира сего, то тума-личность – и от мира сего, и не от мира сего одновременно. «Так нас природа сотворила, к противуречию склонна» («Евгений Онегин»). И так сказано в Библии: «Не от мира сего».
В связи с нашим пониманием культурной миссии литературы уместно разграничить объект и предмет литературы.
Предметом литературы является человек и личность в единстве их мироощущения и миропонимания.
Если говорить о великой литературе, то предметом ее пристального внимания становится процесс превращения человека в личность. Система ценностей (основа содержания) обретает эстетическое измерение (стиль), воплощая формулу Красота – Добро – Истина.
На самом деле надо выразиться еще более точно и конкретно: один информационный комплекс, телесно-психологический, известный нам под названием человек (индивид), на наших глазах превращается в другой, духовно-психологический, имя которому – личность. Меняется тип управления информацией, меняется способ мышления – в результате меняется система ценностей, система мотивов поведения – следовательно, меняются типы конфликтов, типы и системы персонажей.
Именно конфликт типов управления информацией и является объектом изображения в литературе, ибо все духовные коллизии человека коренятся в информационной природе конфликта.
От натуры – к культуре (от приспособления – к познанию): это и есть подлинно культурный путь личности, который посредством образов, закрепляемых в стиле, отражается в литературе.
От тумы-индивида к туме-личности.
Это и есть один-единственный, универсальный объект литературы, отраженный в ее предмете: духовное производство человека. Других попросту нет, им неоткуда взяться. Полюса-то в духовном пространстве всего два: психика и сознание. Два полюса связывает один сюжет (ряд событий). Идти прогрессивно можно только в одном направлении, снизу вверх (осуществляя процесс познания), от натуры к культуре, проходя при этом неизбежные и, в общем, известные ступени (тело – душа – дух). Сверху вниз – это бездуховная траектория приспособления. Если путь к личности состоялся, прямая, та, которая «снизу вверх» (обозначающая процесс познания), смыкает конец с началом, образуя круг. Личность – это целостность, единство «низа» и «верха». Графический эквивалент целостности – это круг. Не следует забывать, что сюжет (основа которого – события) – всегда способ передачи содержания, но не само содержание. От натуры к культуре: это и есть содержательная, внутренняя сторона сюжета, внешнее выражение которой – ряд событий.
Таким образом, можно сказать, что предметом литературы является индивид – человек чувствующий (qui sentit), человек приспосабливающийся, а объектом – личность, человек познающий, разумный человек (homo sapiens). Прилепин «не докопался» до объекта (он и не ставил себе такую задачу, справедливости ради), великолепно воплотив предмет, за которым едва угадываются контуры возможного объекта.
Но я настаиваю: великая литература появится тогда, когда она разглядит в своем предмете – объект. Тогда появится великий современный реалистический роман, и мы увидим, что «Евгений Онегин» – это наше все.
Дело в том, что Пушкин в «Евгении Онегине» обнаружил, зафиксировал и навсегда сделал точкой отсчета объект; до Пушкина литература всецело занималась предметом. Нравится это кому-то или не нравится, но: земля – круглая, а не плоская, как считалось в недавнем прошлом; объект в своих неисследованных пока качествах (а не хорошо исследованный предмет) будет определять развитие литературы.
Нам ли быть в печали? Ведь наш Пушкин открыл на сегодня главное в литературе; надо просто принять это и идти на наш, всерусский (хотя одновременно и всемирный), ориентир. Вот и живите с этим, как говорится.
Ясно, что предмет и объект соотносятся как форма и содержание. Отсюда наш следующий постулат: оплодотворяющим (связывающим, скрепляющим) началом в искусстве является, как ни парадоксально, концепция, картина мира (хотя кажется, что – чувство, которое, по ощущению, доминирует в образе). Любоеорганизованное чувство (скажем, тот же как бы спонтанный порыв-предчувствие «имать города») организовано началом рациональным.
Литература – это искусство слова, которое является способом управления смыслом. Художественное слово само по себе амбивалентно: оно и передает мысль – и убивает ее – тем, что одновременно передает чувство. Грань между рациональным и эмоциональным воздействием слова зыбка и трудноуловима, и пренебрегать этими свойствами слова просто-напросто невозможно (музыкальный звук, скажем, в этом отношении гораздо менее внутренне диалектичен вследствие малой информационной вместимости, он откровенно «привязан» к «чувству», «ощущению»). В художественной литературе акцентировать смыслы, игру ума – вещь чрезвычайно тонкая и коварная. Переизбыток интеллектуального начала нейтрализует образную мощь; «половодье чувств» и, соответственно, образная экспрессия, плохо приспособлены под передачу «контекста идей», концепций.
Если принять во внимание описанную каверзу, можно сформулировать наш опорный тезис следующим образом: «Тума» – более литература, нежели великая русская классика; но она же, «Тума», одновременно является менее искусством, чем вторая.
Литература имеет дело со своим «предметом», существующим в рамках социо- и индивидоцентризма; искусство (в том числе литература как искусство слова, искусство перетекания чувства в мысль и наоборот, искусство соединения мироощущения с мировоззрением) – тяготеет к «объекту», его тенденциозность – персоноцентризм.
Прилепин как автор «Тумы» – более литература, нежели, скажем, плеяда русских классиков первого ряда; однако они же – более искусство, нежели Прилепин. «Серебряный век» русской литературы – более литература, чем век «золотой», тяготеющий к искусству. Литература как искусство принципиально концептуальна (целостна, многомерна), ибо совместить предмет и объект без философской концепции невозможно.
Но, опять же, – все же, все же. «Золото» (концептуальное вещество литературы) прирастает и обогащается «серебром» (стилем).
«Тума» – звенящее серебро с мягким золотым отливом.
Качественный сплав.
С точки зрения количества и качества информации «литература», язык, преимущественно, натуры, на порядок уступает «искусству», языку культуры. Поэтому стиль литературы бывает броским и ярким – за счет нескольких виртуозно освоенных колоритных приемов (в случае с «Тумой» до совершенства доведены диалог с подтекстом, метафорика, лексико-синтаксический уровень). Стиль словесно-художественного искусства сложен и многопланов, его значительно труднее идентифицировать как стиль. Попробуйте описать стиль прозы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Льва Толстого, Достоевского, Чехова. Без «таблицы Менделеева» здесь не обойтись.
Одной из насущных проблем гуманитарных наук, в частности, литературоведения, является методология: если «искусство» читать как «литературу», то в литературе в целом так и не появляется культурного, личностного измерения. Вроде бы, пустячок. На самом деле отсутствие персоноцентрической перспективы делает литературу служанкой природы и общества – но не подданной культуры. Литература превращается в коварный инструмент культурного «как бы» прогресса. В инструмент приспособления к неспособности индивида познавать. Обнаруживать в себе личность.
Культурная миссия «Тумы» видится такой: заставить нас выбираться из тумана мироощущения, пробиваясь к свету нужного нам мировоззрения (картины мира).
Смысловое, несколько диалектическое послевкусие после прочтения произведения: «Тума» – это тума, это то, что о двух концах.
Все на свете – тума.
Ибо: все на свете может быть как ядом, так и лекарством.
Все зависит от того, как пользоваться возможностями, имя которым – тума.
Август 2025