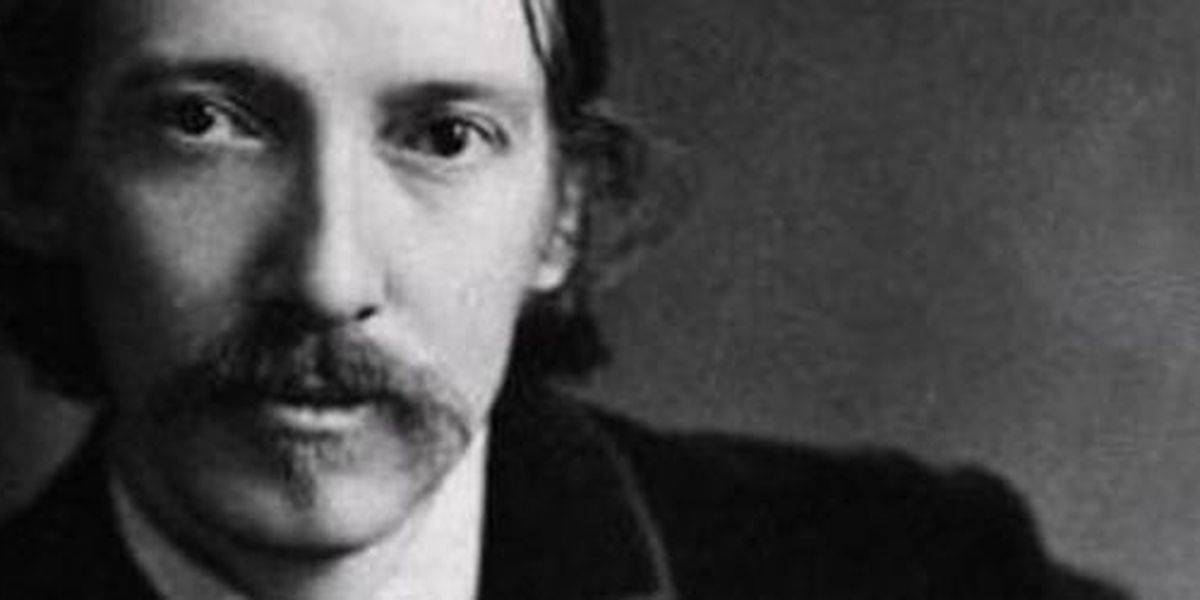16 ноября 2025
Механический глаз: как режиссер Дзига Вертов превратил реальность в эксперимент

Он сказал: «Я — киноглаз. Я — механический глаз. Я — машина, показывающая вам мир так, как вижу его лишь я».
В этом высказывании с жёсткой силой звучит миссия уходящей эпохи — соединить документ с поэзией, жизнь с экспериментом, город-машину с человеком. Речь о Дзига Вертове, одном из крупнейших режиссёров авангарда, творце новой документальной эстетики, обращении к реальности через объектив, который «видит» иначе.
Дзига Вертов (родное имя — Денис Аркадьевич Кауфман) родился 2 января 1896 года (по старому стилю — 21 декабря 1895) в Бялистоке, тогда Российской империи.
Его семья еврейская, отец держал книжный магазин, юноша с детства погружён был в музыку, поэзию, экспериментальные звуки.
Когда началась Первая мировая война и германские войска наступали, семья переехала сначала в Петроград, затем в Москву.
Уже тогда Вертов осознал, что живое восприятие, звук, движение — могут быть материалом не просто для театрального изображения, а для исследования самого времени. Он мечтал о том, что камера станет новой формой «глаза», новым средством видеть.
После революции 1917 года и в годы Гражданской войны он работал в кино-комитете, на кино-поезде, снимал хронику, участвовал в создании первых советских новостных лент.
Теория и манифест
Для Вертова документальный фильм не был лишь «записью события», он видел его как поэтическую форму, где монтаж, ракурс, время, движение, звук (даже в немом кино) создают новое восприятие. Например, он основал теорию «Кино-глаз» (или «Кино-око») — идею, что камера может видеть иначе и лучше, чем человеческое взор.
«Мы: вариант манифеста» (1922) — одно из его ключевых текстов, где он и его «киноки» (группа единомышленников) провозглашают уничтожение театрального кинодрама и возвеличивание кино как механического, объективного, революционного глаза.
Он отрицал «псевдодраму», актёров, студийные декорации: всё это, по его словам, отвлекало от истины жизни.
Камера — не просто инструмент фиксации, но инструмент открытия. И монтаж — не просто соединение кадров, а «ритм» жизни, «поэзия» движения. Он писал, что монтаж — душа фильма.
Ключевые фильмы и как их смотреть
«Кино-глаз / Kino-Eye» (1924)
Этот фильм-воплощение манифеста: без сюжета, без актёров, без постановочных сцен, по словам создателей «кино-вещь без сценария, без актёров, без режиссёра, без декораций».
В нём Вертов экспериментирует с ракурсами, монтажом, временем, показывая повседневную жизнь Советской страны как движение, жизнь как танец механики и человека одновременно.
Продолжительность: ~1 час
На что обратить внимание:
- Отсутствие «главного героя» — героиней становится сама реальность.
- Монтаж по ритму: не сюжет, а пульс города.
- Моменты, где камера будто «влезает» в жизнь — взгляд рабочего, улыбка ребёнка, отражение в воде.
Цитата Вертова: «Кино-глаз — это способ увидеть мир таким, каким он является на самом деле».
«Человек с киноаппаратом / The Man with the Movie Camera» (1929)
Этот фильм часто называют вершиной его экспериментов: живой город, машины, люди, монтаж, камеморажение, ускорение/замедление, кадры, снятые с поезда, с автомобиля, сверху, снизу.
Фильм — без сюжета в привычном смысле, без актёров-героев, но полный жизни, метафор, ритма, времени. Вертов считал, что камера «тащит глаза аудитории» от рук к ногам, от ног к глазам… > цитата по реддиту: «The film camera drags the eyes of the audience from the hands to the feet, from the feet to the eyes…»
Продолжительность: 68 мин
На что обратить внимание:
- Мета-уровень: вы видите, как снимается сам фильм.
- Кадры из поезда, лифта, улицы, роддома, завода — всё соединено ритмом.
- Женщина-монтажёр (Елизавета Свердлова) монтирует фильм прямо в кадре — символ сотворения мира.
- Ускорения, стоп-кадры, мультиэкспозиции — впервые использованы как приёмы не ради трюка, а ради смысла.
Фильм попал в список 100 лучших фильмов всех времён по версии Sight & Sound (2022).
«Одиннадцатый» (1928)
Фильм о строительстве социалистического государства к одиннадцатой годовщине Октября. На самом деле — симфония индустриализации: заводы, мосты, металл, лица.
Поэт-оператор Михаил Кауфман (брат Дзиги) буквально превращает сталь и бетон в танец.
Продолжительность: ~1 час 10 мин
На что обратить внимание:
- Как камера ритмизирует труд— тяжёлый труд превращается в поэзию.
- Образ машины как продолжения человека.
- Переход от хаоса старого к упорядоченности нового — чисто визуально, без слов.
Вертов писал: «Каждая гайка, каждый болт — это движение мысли».
«Энтузиазм (Симфония Донбасса)» (1931)
Первый советский звуковой документальный фильм.
Вертов не просто добавляет звук, а создаёт из него музыкальную композицию — индустриальную симфонию.
Записи молотов, лопат, машин, криков рабочих становятся оркестром.
Продолжительность: 1 час
На что обратить внимание:
- Отсутствие традиционной речи: звук становится равным изображению.
- Музыкальность труда.
- Слияние человека и техники в одном ритме.
Вертов писал: «Слышу мир как музыку. Каждый гудок, каждый звон — нота моей симфонии».
«Три песни о Ленине» (1934)
Последний крупный фильм Вертова. Уже советский канон, посвящённый Ленину, но и здесь чувствуется авторская рука — поэтический монтаж, свет, лица простых людей, слёзы, память.
Продолжительность: ~1 час
- На что обратить внимание:
Эмоциональная документальность — как народ скорбит и помнит. - Введение звука и песни как основы повествования.
- Лирика в пропаганде — Вертов превращает политический заказ в искусство памяти.
Сам Вертов называл этот фильм «песнью о человеке, который жил в сердцах».
В 1930-х Вертов работает с звукозаписью, с партийной тематикой. Фильм «Три песни о Ленине» (1934) — три части, посвящённые Ленину, уже с устоявшейся идеологией.
В конце карьеры режиссёр оказался ограничен рамками «социалистического реализма» и фактически был вынужден работать как монтажёр или режиссёр новостей.
Поэзия документа: как читать фильмы Вертова
Без сюжета, но с ритмом
Мы привыкли к нарративу: герой, конфликт, разрешение. Вертов отказывается от этого. Его фильмы — потоки времени, движения, жизни. Но они полны ритма: ускорения, замедления, контрасты, монтаж-расколка. Это поэтика не слов, а звука и образа, ритма и монтажа.
Камера как глаз-машина
«Механический глаз» — камера, которую Вертов воспринимает как инструмент «видеть» сферу, недоступную обычному взгляду. В его работах камера «ползает», «летит», «прыгает», выбирает ракурс не естественный, а умышленно «вычленённый». Это позволяет «документу» стать эстетическим объектом.
Монтаж как язык
Вертов понимал, что смысл создаётся не только в кадре, но между кадрами. Соотношение, интервал, ритм, контраст — всё это язык, который превращает факт в рефлексию. Он писал, что монтаж — «душа фильма».
Поэзия повседневного
Вместо экзотики, постановки, драмы — жизнь в городе, на заводе, на улице, в машине. Повседневность становится объектом взора, становится пластикой, становится поэзией. Фабрики, поезда, заводы, люди — всё это не фон, а «тело» фильма.
Наследие и актуальность
Вертов — не просто историческая фигура, он — родоначальник множества направлений: документального кино, кино-глаза, cinéma vérité, монтажного языка.
В наше время, когда смартфоны и дроны позволяют снимать «реальную жизнь» без актёров, без сценария, идея Вертова о свободном взгляде видится пророческой. Он был убеждён, что «новый человек» будет смотреть иначе, машина-глаз поможет открыть новое восприятие.
Однако и сегодня его работа задаёт вопросы: можем ли мы действительно показать «истину»? Или камера — тоже инструмент идеологии? Вертов сам не уходил от идеологии: его фильмы активно работали на советскую власть и пропаганду. Поэтому важно смотреть на них не только как на эстетический эксперимент, но и как на продукт времени.
Как смотреть Вертова сегодня
Слушайте ритм — это не просто документ, это музыкальная структура.
Не ищите историю — ищите взгляд.
Смотрите, как он смотрит — камера = главный герой.
Отделяйте время и идеологию — в его фильмах социализм — лишь оболочка эксперимента, а суть — человеческое восприятие и свобода формы.
Воспринимайте монтаж как поэзию — Вертов писал, что «монтаж — это мышление в оазах».
В культуре, где много симуляций, где «реальность» всё чаще становится конструктом, наследие Вертова звучит как напоминание: камера — это не просто запись. Камера может быть зеркалом мира — или орудием нового взгляда. Какое зеркало выберем мы? И какой взгляд доверим?
Поразмышляйте: может ли камера быть «глазом истины», или это мечта, почти миф, забытый в шуме экрана?