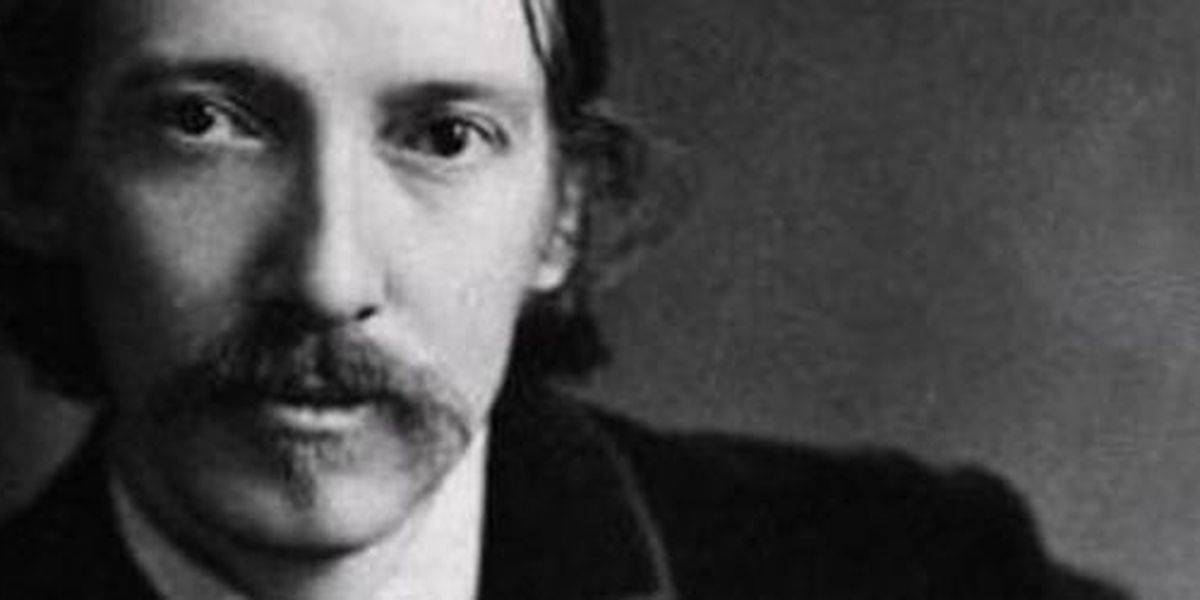16 ноября 2025
Юг без признаков севера
Роман Олега Черняева «На юге чудес» — это классический образец магического реализма в стиле Маркеса (романа «Сто лет одиночества», прежде всего), но со среднеазиатским уклоном. Можно вспомнить и, например, «Хуррамамад» Андрея Волоса, и прозу Тимура Пулатова и Сухбата Афлатуни (где дело тоже происходит в достаточно мифологизированной Средней Азии). Однако у мира-мифа, придуманного и подробно, в ярких чертах, описанного Черняевым, есть важнейшая отличительная особенность. Это именно Русский Мир. Его центром и основным местом действия книги является таинственный и вместе с тем кажущийся знакомым во всех своих реалиях город Софийск. Затерянный где-то на среднеазиатском Юге — а точнее сказать, в мифологических координатах. «Юг без признаков Севера», так можно описать эти места, используя название книги ещё одного известного писателя.
Тут надо сказать об авторе (я уверен, что его жизнь и судьба имеет самое прямое отношение к написанному им). Черняеву — 48 лет; вышедший в этом году в питерском издательстве «Алетейя» немаленький (больше 20 печатных листов) роман это, по сути, его дебют в большой литературе. Он родился в Чимкенте (что, конечно, крайне важно — в книге географическая и этнографическая мифология отчетливо основана на мифологии детства). Черняев считает себя потомственным казаком — и более того, носителем культурной идентичности русского глобального Юга. Получил высшее кинообразование в Питере, писал сценарии, снимал, ездил по стране и миру (даже в Голливуд судьба заносила). А в 2023 году ушел добровольцем на СВО. Позывной «Худой». Штурмовик, разведчик, оператор БПЛА… Кавалер Ордена Мужества, других наград.
Я познакомился с ним в Москве, где он проходил лечение (в ближайшее время собирается вернуться на СВО). Мы гуляли по осенним паркам, разговаривали, что называется, обо всём, то есть о жизни и книгах. Черняев показался мне цельной, верящей в то, что он делает, натурой. Таков и его роман: цельное, четкое высказывание.
Речь о судьбе глобального Русского Юга, где нас сейчас, можно сказать, и нет, но куда нам необходимо вернуться. Потому что это — один из опорных камней нашего Будущего.
Основу повествования составляет мифологизированная история казачьей семьи Толмачевых во главе с её патриархом Петром. Казаков ничуть не смущают чудеса и странности, окружающие их, собственно, составляющие саму ткань их существования. Ничего удивительного — и они, и другие (весьма многочисленные и причудливые) персонажи романа живут во времени и пространстве, мало напоминающих обыденность (а вернее, являющихся зеркалом нашей, посюсторонней, реальности — мы даже знаем её координаты — это XIX век). Да, с одной стороны, перед нами причудливо интерпретированная хроника заселения земель среднеазиатского Юга. «Ночью, когда измученные долгим переходом путники спали, Петру Толмачеву приснилось, что над миром вознесся огромный прозрачный купол, который держала в руках небесная София — Мудрость Господа, четвёртая, женская ипостась божества. Она сказала Петру, что воздвигается город, в который не войдет Смерть до последнего дня его. Проснувшись, Петр Толмачев не придал сну никакого значения, поскольку с легкомыслием двадцатиоднолетнего он и так знал, что никогда не умрёт (что с ним и случилось), и не очень-то верил в сны. С присущей ему энергией и лихостью он ушёл валить растущие над яблоневыми рощами тянь-шаньские ели и сплавлять их вниз по бурной реке, по пути убедив казаков назвать станицу Софийской».
С другой — упомянутая Смерть здесь — это вполне доступное для глаза жителей существо, опасное и малоприятное, но, как и было предсказано, пасующее перед местными: «Смерти показалось, что по сияющей дорожке солнца прямо на неё идут трое мужчин, обнявших друг друга за плечи. С расстёгнутыми на груди рубашками и шлёпках на босу ногу, они бесшабашно шли навстречу Смерти, с особенным светлым и лихим выражением рождённых в самом сердце Азии.
Когда они подошли поближе, Андрей Толмачев, который шёл посередине, громко сказал:
— Ну и рожа.
И они весело захохотали».
Плотность текста, как вы, думаю, уже поняли, здесь весьма велика. Краски яркие, но не бьющие по глазам без нужды. Действие организовано вполне умело. Много специфически южного — страстей, боевых схваток, любовной лихорадки.
Конечно, сам метод магического реализма, тем более в его, так сказать, классическом варианте, используемом Черняевым, сегодня кажется не слишком перспективным. Очень уж много и по самым разным поводам сказано в этом ключе за последние 60 лет. Будем надеяться, что Черняев, шагнёт на новые территории — так же успешно, как его герои-казаки. Книгу об СВО (о ней Олег думает), я почитал бы с огромным интересом.
Михаил Гундарин